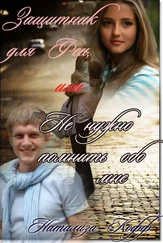— Через полчаса выступаем, господа! — сурово приказал Муравьев.
Полк вытянулся меж полями серой колеблющейся лентой. Солнце и снег. День распушился ясный, улыбающийся. Под сапогами мирное похрустывание наледи. Привычное дело — шагать в Трилесы. Там были — туда возвращаются. Такая, значит, планида. Сергей Иванович Муравьев, отец родной, не выдаст — выведет. Он знает, куда надо. Надо в Трилесы. Упрямо шли люди, привыкшие к побоям, к муштре, к издевательствам. Умеющие смотреть в глаза смерти. Многие не раз смотрели. Видели спину убегающего врага. Падали умирать на снег, на горячий песок, в вонючие болота. Не поддались, выжили. Теперь шли свободно. Неволю, как рванье, сбросили с плеч.
Не дойдут они до Трилес.
Впереди на дороге отряд генерала Гейсмара, посланный Ротом на подавление восстания.
Первый залп прокатился над полем громово-снежной метелью. Ядра с визгом пронеслись над колонной — перелет. Заржали лошади, ряды солдат смешались. В обозе сразу паника.
Муравьев поднялся в стременах. Его грозная команда, как обжигающая пощечина:
— Полк, к бою! Без сигнала не стрелять! Вперед!
Перед ними темная стена всадников, остерегающих пушки. Восставший полк, ощетинившись штыками, без выстрелов, угрюмо пошел в свою смертную атаку. Залп и еще залп. Стоны раненых, выкрики, лязг оружия, похожий на зубовный скрежет. Последняя, отрывистая команда Муравьева:
— Стрелки, рассредоточиться! В обход орудий, марш!
Последнее яркое мгновение вольности и судьбы.
Дальнейшее — полубред. Картечная пуля вонзилась в голову, оглушила, заволокла мозг кровавой мутью. Муравьев сполз с коня, медленно опустился на снег. Поднес руку ко лбу — о, какая густая, теплая кровь! С печальной улыбкой разглядывал мокрую алую ладонь, еще раз импульсивно оттер кровь с глаз, бровей. Звуки боя не тревожили его, он оглох. Он сидел на снегу в благостной тишине. Но недолго. Потряс головой, с трудом поднялся, побрел наугад. Впереди ничего не видел, но краем сознания понимал, что кругом должны быть люди. Он спрашивал:
— Брат мой, где брат? Где Ипполит, скажите?!
Это контузия. Погружение в гудящие миражи, туда, где сизый полумрак и нет боли, только как-то чересчур пустынно. От этого оторопь: как же так — было много людей, куда-то шли все, а теперь никого. Зато слух вернулся. Ага, вон бежит солдатик, да какой-то разъяренный. Неужели это ему он кричит, Муравьеву: «Обманщик!» — и штыком грозится. И ведь знакомый солдатик, кажется, тот же, который стоял под окном в Ковалевке, у него Сергей вырвал тогда ружье. А может, и не тот, похожий на того. Но почему он так злобно оскалился, почему грозит? «Я никого не обманываю, — попытался объяснить Муравьев. — Я брата ищу своего!» Путь солдату преградил какой-то офицер, оттолкнул, крикнул:
— Пошел прочь, негодяй! Не видишь, подполковник ранен!
Это, кажется, Соловьев. Конечно, это он. А где Миша Бестужев? Где все?!
На мгновение Муравьев четко осознал происходящее, сквозь багровый, нависший над полем туман попытался обозреть поле боя, отдать распоряжение — еще не все потеряно! — но тут же снова погрузился в знойное полузабытье.
Бестужев и Соловьев повели Муравьева к обозным телегам.
— Представляете, — бормотал Муравьев, — Ипполит потерялся! Нигде не могу его найти.
Ипполита нетрудно было найти. Он лежал в сугробе, запрокинувшись головой, худенький и мертвый. Выражение его лица было такое, точно он что-то разглядывал в голубоватом небе, замечтался и зажмурился. Несколько минут назад кровь в нем билась сильно и гулко, сердце кипело жаждой битвы и победы, но очень много он увидел сразу такого, чего не выдержал его возвышенный разум. Он увидел, как с окровавленной головой упал на землю брат Сергей, как стонали и падали вокруг солдаты, как бежали, роняя ружья и прикрывая головы руками, оставшиеся в живых. Ипполит обещал не уйти с рокового места без чести. Робким движением он поднял к лицу пистолет Кузьмина и выстрелил себе в рот. Безгрешная душа вознеслась ввысь, туда, где, надеялась она, постигнет иные счастливые и ласковые мгновения.
Над Ипполитом склонились Матвей Муравьев и Кузьмин.
— Он был лучше всех и потому ушел первым! — сказал Кузьмин.
Матвей не страдал. В груди у него все пересохло, слез не было, только тяжелый железный обруч намертво сдавил грудь.
Кузьмин взял его за руку и, морщась от боли, — у него было прострелено плечо — повел к обозу.
Не было уже в живых и богатыря Щепиллы. После первых залпов, увидев, что ряды смяты, он собрал остатки своей роты, бросил ее на гусар, на пушки, в дикий отчаянный прорыв. Он шагал через трупы, ревел, как тигр, рука его стиснула ружье, как тростинку.
Читать дальше
![Анатолий Афанасьев ...И помни обо мне [Повесть об Иване Сухинове] обложка книги](/books/394501/anatolij-afanasev-i-pomni-obo-mne-povest-ob-cover.webp)