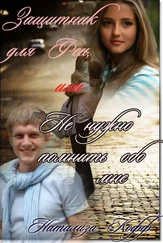Он записал стихи на французском языке, и это вызвало в нем глухое раздражение, и опять он приблизился к разгадке, к наиважнейшему пониманию, и тут же отпрянул, ужаснувшись глубине черного пятна. Как с обрыва в пропасть заглянул и ничего не смог различить, кроме очертаний бездны.
Наконец явился Сухинов. Известия, которые он принес, были малоутешительны, но Муравьев, казалось, не особенно вникал в их смысл. Да и Сухинов докладывал в таком тоне, будто исчезновение егерского полка не означало утрату последней надежды, а было недоразумением, скорее забавным, чем досадным. Муравьев, слушая его, испытывал мучительное чувство, похожее на провал в памяти. Он вдруг спросил:
— Скажите, Сухинов, вам не кажется, что все наши действия с самого начала были обречены на неудачу?
— Кажется, — охотно отозвался поручик. — Но не с начала, а с середины.
— Как это? С какой середины?
— С той самой, когда мы начали кружиться на месте, как укушенный за хвост кобель.
Муравьев недовольно поморщился.
— О, старая песня. Брать с ходу Киев, потом Москву — наивные рассуждения. У Бестужева особый дар убеждения. Признаю, я и сам под его влиянием готов был поверить в утопию. Что уж спрашивать с ваших друзей Кузьмина, Щепиллы или моего брата Ипполита? Но вы-то, вы-то, опытный в военном деле человек, вы участвовали в баталиях, как вы могли поддаться пустым фантазиям? Не понимаю!
Сухинов смотрел прищурясь, весело.
— Я не так умен и образован, как вы, Сергей Иванович, я верю только в то, что совершилось.
— Оттого у вас и сейчас, когда все так плохо складывается, прекрасное расположение духа?
— Я редко бываю в прекрасном расположении духа. Сейчас особенно.
— По вашему виду этого не заметишь. — Муравьев сказал это с завистью, необидно. Весь он был какой-то огрузневший, с затуманенным взором. Сухинов, грешным делом, подумал: не пьян ли? Да нет, какое там пьян. Сухинов за эти дни почти не расставался с Муравьевым, ходил за ним по пятам как привязанный. А если случалось отлучаться, стремился вернуться как можно скорее. Он был не властен над собой. Его к Муравьеву точно приклеило. Так он мальчиком ходил за отцом и сломя голову с радостью выполнял любые поручения. В его утомленной, воинственной душе таилась глубокая потребность в привязанности к кому-то, кто был бы лучше его и умнее, и чище. И кто никогда бы не позволил себе смеяться над нежной человеческой незащищенностью. Даже чрезвычайные обстоятельства, в которых свела их судьба, не помешали Сухинову разглядеть, что Муравьев именно тот человек, который ему необходим, тот человек, который спасает. Конечно, Сухинов не умел открываться нараспашку, тем более что Муравьев явно подозревал в нем какую-то противодействующую силу. Муравьев словно опасался его влияния на офицеров-славян и на солдат, ревновал их к нему и с охотой поддерживал и всячески укреплял легенду о беспощадности и неумолимости Сухинова. Какая слепота! Единственно, о чем помышлял Сухинов, это быть полезным Муравьеву, а значит, и всему их движению. Он и старался, как мог, из шкуры лез. Он спал за трое суток часов пять — не больше.
Горькая улыбка бледным пятном проступила на его лице — он вспомнил морозное утро, кровь на снегу, вопли истязаемых солдат и падающего без сознания Муравьева. Господи, какое детское сердце бьется в этом властном, гордом человеке, если оно разрывается от сочувствия к чужой боли. И как он страдает сейчас, одинокий, задавленный сомнениями и неуверенностью. Чем ему поможешь?
Если бы Муравьев был женщиной, Сухинов пал бы на колени и признался ему в любви. Если бы к окну подошел убийца, он бы заслонил его от пули. Сухинов сказал доброжелательно:
— Надо бы посты проверить, Сергей Иванович. Я, когда возвращался, видел, какие-то людишки без дела шныряют. Я пойду, а вы прилягте, подремлите. Утро вечера мудренее.
— Какой там вечер. Через два часа выступаем. И знаете, куда пойдем?
— На Москву? — пошутил Сухинов.
— Почти угадали, поручик. Повернем на Житомир. По дороге в Паволочи стоит артиллерийская рота Пыхачева. Она ведь к нам присоединится, а? — Горький вопрос Муравьева упал тяжело, как камень.
— Присоединится, — уверенно подтвердил Сухинов. — Ей и деваться больше некуда. Непременно за нами увяжется.
Последняя ночь свободы, тревожная ночь. Кузьмин, Соловьев, Щепилло — на постах, не спят. Ипполит и Матвей в темноте, укрывшись тулупами, неспешно беседуют о смысле жизни. Говорит больше Ипполит. Матвей слушает, не перебивает, он счастлив тем, что судьба послала ему утешение — встречу с любимым братом. Ипполит произносит вечные слова, их до него много раз говорили и еще будут не раз говорить. Такие слова, которые не дают покоя человеку, как только он становится разумен.
Читать дальше
![Анатолий Афанасьев ...И помни обо мне [Повесть об Иване Сухинове] обложка книги](/books/394501/anatolij-afanasev-i-pomni-obo-mne-povest-ob-cover.webp)