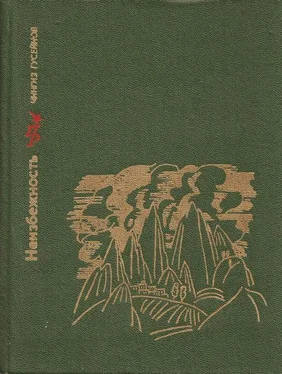Четыре Александра! И еще будут: изгнанный из страны; объявленный сумасшедшим; и — сослуживец Фатали, который возникнет и исчезнет, будто и не было его вовсе!
Но Фатали пока знает четырех: одного зарезали, о другом его восточная поэма, третий вскоре будет убит горской пулей, четвертого скосила лихорадка.
Еще один Александр, помимо тех, которые были и будут, — только и разговоров в Тифлисе: вернулся Александр Чавчавадзе!.. А как мечтал Фатали попасть к нему домой, познакомиться с ним! Человек-легенда, генерал, дважды ссылали в Тамбов, и оба раза за участие в заговоре за независимость Грузии; но возможно ли? Ссылали и выпускали: в первый раз помогло ходатайство отца, а во второй — прежде всего собственные заслуги: дрался против Наполеона, воевал с персами.
— А ты о масонстве! Кто за тебя, Фатали, походатайствует? Какой князь?! — Поди ответь Хасай-беку Уцмиеву.
— А ты? Разве ты не князь?
Хасай-бек махнул рукой. Если такие, как Чавчавадзе, ничего не смогли, и такие заслуги, такая слава, Столько звезд… Чего добьешься ты?.
И никто не узнает. Заглохнет голос меж стен каземата, крикнуть не успеешь. Но кому кричать?
Кто услышит? И даже там, на севере, вот же они — и Одоевский, и Мишель. А прежде — Бестужев…
— Могу вас познакомить, Фатали. — Это Бакиханов. Но и не спешит, ханская гордость не позволяет являться незванно к грузинскому князю.
Может, Одоевский? Он ввел к Чавчавадзе Мишеля, может, Мишель введет Фатали? Но он сам-то был лишь раз, а Одоевского скосила лихорадка. Фатали б говорил с Александром Чавчавадзе на фарси, о Хайяме, которого перевел поэт на грузинский.
Так и не навестил, то да се, а там нелепая гибель князя: с чего-то внезапно испугалась лошадь, впереди будто блеснули волчьи глаза, — шарахнулась, князь вылетел из одноколки и разбился насмерть.
Одоевский желтый-желтый, губы воспалены, улыбнулся, выступила кровавая трещинка на ранке: «Мне улыбаться нельзя…» Фатали это знакомо — мать!.. Здесь и Мишель, но Фатали много лет спустя понял, что означают слова:
«…говорили, что именно ты о мечах и оковах».
Прочтет лет через двадцать тонкий-тонкий листок: «…но лишь оковы обрели».
И к Фатали, будто споря с ним:
— Да и прочли вы разве мои стихи прежде, нежели написали свою элегическую восточную поэму, этот, кажется, в «Московском наблюдателе» я прочел, прекрасный цветок, брошенный на могилу Пушкина.
А в ушах Фатали — слова барона Розена: толстые губы, одутловатые щеки, багрово-красные генеральские погоны; пунцово-алое и желтое-желтое…
— По-моему, — это Одоевский, — вы не могли их прочесть тогда.
«Ух, как холодно!..»
Дрожь передается и Фатали.
Малярийному комару очень была по душе кровь ссыльных.
«Впивайтесь, впивайтесь!..» — император шлепнул по руке — меж рыжих волос запутался безобидный северный братец южного малярийного комара; смельчак — испробовать царской крови!.. Шлепнул, а потом вывел размашистым, но четким почерком резолюцию, как обычно, по-французски, на ходатайстве, кажется, барона Розена разрешить перевести измученного лихорадкой Бестужева из Гагр, где свирепствуют малярийные комары, в другое место («может, в Санкт-Петербург?!»): «Не Бестужеву с пользой заниматься словесностью! Он не должен служить там, где невозможно без вреда для службы».
Неужто это Бестужев? — удивляется Фатали. — И так близко! Потрясен и Бестужев: уж где-где, а здесь и не мыслилось прежде, что придет день, и он вчитается в иноязычные строки о Пушкине; что-то новое, другими глазами, иной душой; и далекое и близкое! А те, кто пошли в декабре на падишаха, представить не могли себе! Чтоб иноязычные, чтоб иноверцы — да так написали?! Если б прежде доверились Фатали, и он бы смог прочесть стихи северного собрата!
— Барон, если помните, всегда восторгался, что письма в Тифлис из Петербурга приходят за одиннадцать дней.
— Почта!.. Да разве можно такое по почте? — взвился Бестужев.
— Прочти я те стихи — может, и поэма была бы другая.
— Полно скромничать! Вы можете гордиться своей поэмой. А что касается тех стихов, боюсь, обожгли б себе руки, попадись те листки к вам.
— Как вы могли — знать и не показать! Я догадался потом, как вспомнил выражение вашего лица, когда барон Розен спросил вас: «Вы читали стихи на смерть Пушкина?» И когда, уже зная о тех листках, я заново просмотрел ваш перевод моей поэмы, сначала, не скрою, удививший и испугавший меня.
— Вы ж были наивны, Фатали! Да и прошло-то ведь всего три года, как вы пришли на службу к барону…
Читать дальше