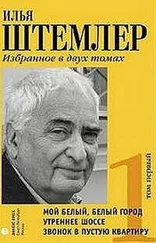Баба Иванова, Ховра, дала Алексашке порты, рубаху, сделала сенник и достала из сундука две постилки. Харчевался Алексашка Теребень за одним столом с хозяином и хлебал затирку из одной миски.
Часто вспоминал Алексашка родной и теперь далекий Полоцк. Сжималось от боли сердце. Там он родился и вырос, там овладел ремеслом. Там померли мать и отец. Вспоминал Фоньку Драный нос, с которым по вечерам делил радости и невзгоды. И чувствовало Алексашкино сердце, что сведут с ним счеты иезуиты за лентвойта. Пусть бы бежали тогда вместе… Была в Полоцке и девчина Юлька, которая приглянулась Алексашке. Знал Теребень, что и он ей мил. Да что теперь вспоминать о невозвратном! Заказана ему дорога в Полоцк. Пусть бы чем-нибудь конопатая и молчаливая Устя напоминала ту, далекую… Легче было бы на сердце. Так нет же! В глаза не смотрит, словом не обмолвится. Он в хату — она в сени. А если оба в хате — отворачивается спиной.
С утра до полудня Алексашка возился в кухне — переделывал горн. Не понравилось, как сложили его пинские умельцы. Мех был плоским и круглым. Алексашка сдавил его дубовыми шлеями и вытянул кишкой. Он стал узким, и ветер в нем упругой струей ходить будет. Дышло сделал более длинное — легче качать. Когда закончил работу, насыпал углей, разжег бересту и закачал дышло. Тяжело ухкает мех. Запахло углем и окалиной, как там, в Полоцке. Улыбнулся Алексашка: веселее стало на душе. Теперь осталось ждать железа.
С полудня в кузне делать нечего. Пришел в хату, Шанени с утра не было дома. Ховра возилась в грядах. Алексашка отмыл от угля руки, сполоснул лицо и сел У стола на лавку. Пришла в хату Устя, отодвинула заслонку в печи, в глиняную миску налила крупник. Миску поставила перед Алексашкой. Положила еще половину каравая и — к двери.
— Иван не говорил, скоро приедет?
— Не говорил, — Устя пригнула голову.
— Это ты мне налила?
— Кому же еще?!
— Нечто ты сегодня разговорчивая.
Показалось Алексашке, а может, и не показалось: зарделась Устя. Споткнулась о порог. Алексашка вослед:
— Гляди, лоб не расшиби.
А Устя уже из сеней, да ро злостью:
— Не твое дело!
Алексашка ел крупник и думал про то, что жизнь в Пинске во много раз тревожней, чем там, в его краях, на Двине. Ворота в город заперты. У ворот часовые денно и нощно с алебардами и бердышами. По городу разъезжают рейтары на конях. Три дня назад через Северские ворота кони втянули две кулеврины, стреляющие четырехфунтовыми ядрами. Одну оставили тут же, возле ворот, вторую потянули по улицам к Лещинским воротам. Пушкари хлопотали возле орудий, раскладывали ядра, расставляли ящики с пыжами. Через день кулеврины убрали в шляхетный город. Пушкари сказали, осмотрев их, что для боя они непригодны. Не на шутку всполошилось шановное пинское панство, услыхав про поражение под Пилявцами. Но виду все же не подает: по вечерам в шляхетном городе слышится музыка. Войт Лука Ельский завел потешных, и они стреляют из гулких хлопуш.
Сытно поев, Алексашка встал из-за стола. Делать было нечего. Вышел за ворота и улицей подался в город.
На базаре и возле корчмы людно. Вдоль торговых рядов — купеческие повозки. Глазастая детвора в изодранных рубашонках вертится возле лошадей, рассматривая гривастых и лохманогих тяжеловозов. А мужикам и бабам охота знать, что привезено в Пинск. В тонких дощатых ящиках обычно держат блону [1] Оконное стекло.
. Дорогая штука для мужицкой избы. Загребница [2] Толстый холст.
тоже не с руки. Бабы сами ткут тонкое льняное полотно. Его скупают купцы в Пинске за гроши и везут в неметчину. Там серебряные талеры получают. А вот капцы [3] Кожаная обувь, вроде лаптей.
— стоящий товар. Только мало их привозят. Ни того, ни другого Алексашке не надо. Вошел в широко распахнутую дверь корчмы. Душно в маленькой хате. Пахнет брагой и пирожками. За двумя дубовыми столами — мужики. Стоит шум и смех.
Третий раз заходит в корчму Алексашка Теребень. Тут собираются мастера и челядники всех цехов. Многих Алексашка уже приметил. Некоторых знал по именам. Широкоскулый лобастый Парамон — из скорняжного цеха. Шустрый и крикливый Карпуха пошивает порты и армяки у Ермолы Велесницкого. Приметил еще подслеповатого Зыгмунта. Этот — лях. Пану Скочиковскому байдаки [4] Речные суда.
мастерит. Но что русскому мужику, что белорусцу или ляху — от пана одна ласка.
Возле двери корчмы Алексашка увидел старого, седого лирника. Он сидел на земле и, уставившись вдаль отрешенными глазами, тихо перебирал струны худыми желтыми пальцами. Возле него стояла помятая оловянная кружка, и посетители корчмы отливали ему браги, а на холстяную тряпицу ложили пирожки, начиненные рыбой или капустой.
Читать дальше
![Илья Клаз Белая Русь [Роман] обложка книги](/books/393607/ilya-klaz-belaya-rus-roman-cover.webp)