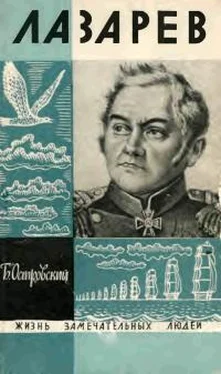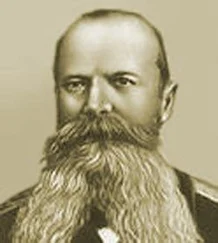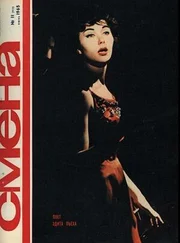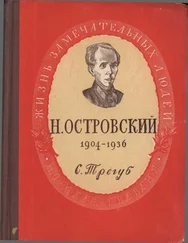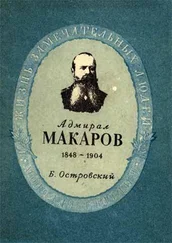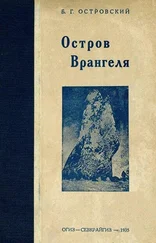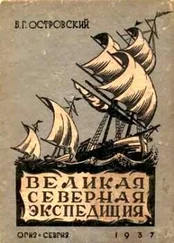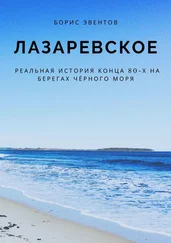И юный Лазарева флот,
Краса и честь Эвксинских вод 1.
Его руками создан был,
России силы укрепил.
[1 Понт Эвксинский - древнегреческое название Черного моря.]
Не особенно доверяя английским картам, Лазарев был озабочен изданием собственных русских карт. Он считал, что пользоваться чужими картами «не совсем благородно».
Лазарев задумал грандиозную гидрографическую работу: составить карты «от Таганрога до Гибралтара», а если позволит время, то и выйти в океан. К работе этой он привлек капитана второго ранга Е. П. Манганари.
В 1844 году был издан первый русский атлас Черного и Азовского морей. «…Утвердительно могу сказать, что подобного издания в России у нас еще не бывало. Что другого не успею, может быть, сделать, но атласом похвалюсь, что кончен», - удовлетворенно писал Лазарев А. А. Шестакову.
Вскоре вышла и русская карта Средиземного моря.
Работа продолжалась. Приступили к описи Мраморном моря, которую выполнял капитан второго ранга М. П. Манганари. «Когда и эта работа кончится, - сообщает Лазарев тому же Шестакову, - тогда у нас будут вернейшие свои карты всего пространства от Таганрога до Гибралтара. Но на этом мы не остановимся, если бог продлит здоровье, то начнем гравировать Северный Атлантический океан со всем прибрежьем Португалии, Франции и Англии, наконец Английский канал и потянемся до Архангельска и Балтики; будем действовать, покуда силы есть и средства».
Отдавал Лазарев должной и переводным сочинениям. При нем было издано много лоций с подробным описанием Средиземного моря и прилежащих частей Атлантики, «…в картах этих морей мы очень нуждались и ходили, так сказать, ощупью, - замечает Лазарев. - Теперь глаза наши открыты!»
Но вот подоспела величайшая реформа судостроительного дела. С начала XIX века тысячелетнее господство паруса уступало место паровой машине. Тихо, но верно паровой двигатель входил в судостроительную практику Соединенных Штатов Америки, Англии, Франции.
Вместе с другими передовыми русскими моряками, и прежде всего с адмиралом Корниловым, Лазарев сразу оценил значение парового двигателя для флота и, предвидя его огромное будущее, стал разрабатывать проекты, сначала колесного, а потом и винтового железного парохода. Но металлургическая промышленность была развита в России слабо. Отсутствовала и подходящая судостроительная база и многое другое. Портило дело и отрицательное отношение к пароходам Николая I, презрительно называвшего их «самоварами».
Во многих делах Корнилов был для Лазарева незаменимым помощником, в деле же создания будущего парового железного флота его заслуги особенно велики. Как и Лазарев, Корнилов не сомневался в победе железного винтового корабля над парусом. Он детально изучил паровую машину, внес много оригинальных соображений о том, как использовать ее на флоте, и внимательно следил за развитием пароходного дела за границей. А когда решено было заказать в Англии четыре парохода для русского флота, Корнилов был откомандирован в Англию для наблюдения за их постройкой.
Строительство железных кораблей с паровым двигателем первоначально не получило развития на Черном море. С 1819 по 1830 год было построено в Николаеве всего три парохода, среди них известный четырнадцатипушечный пароход «Громоносец». За ними последовали «Инкерман», «Бердянск», «Таганрог», «Еникале», «Тамань», «Казбек» и «Прут».
Морское министерство настаивало на постройке железных пароходов в Америке. Лазареву эта идея пришлась сильно не по душе. Когда речь зашла о заказе большого парохода-фрегата в 600 сил «Камчатка», Михаил Петрович по обыкновению поделился своими мыслями с Шестаковым. «Стоит он (то есть пароход «Камчатка».- Б. О.), по слухам, 2 720 000, - писал он ему. - Но, кажется, не соответствует ни цене, ни ожиданиям!… За эту цену можно было иметь два пребольших линейных корабля… Вообще не расчет был заказывать пароход в Америке, где подобной величины морского парохода никогда еще не строили. Следовательно, американцы учились бы на наши деньги».
Лазарев хорошо понимал, что пароходы скоро вытеснят парусные корабли и для Черноморского флота потребуется уголь, а не дрова. И Лазарев озабочен, где взять уголь. Свои надежды Михаил Петрович возлагает теперь на месторождение, обнаруженное в 1721 году русским крестьянином Григорием Капустиным в районе Северного Донца (ныне Донбасс).
Без промедления Лазарев командирует на Луганский завод капитан-лейтенанта Матюшкина ознакомиться с тамошними угольными копями и доставить ему образцы каменного угля из разных разработок.
Читать дальше