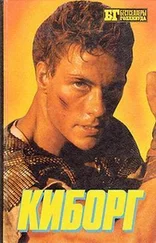Нововведение, предложенное братом Питером, состояло в том, чтобы со всех сторон обсудить вопрос, прежде чем ставить его на голосование. Ганнибал Вашингтон, с искаженным от гнева маленьким, сморщенным лицом, кричал Труперу:
— Пили один! Для себя! А что напилили, не надо поровну! Не считать! Чего смеешься, туша черномазая!
Трупер замахнулся на него топором. Гидеон и другие негры растащили их в разные стороны. Брат Питер кричал:
— Стыд и срам, проливать кровь за такое!
Спорили целый час, пока не охрипли, и на этот раз Гидеон едва-едва собрал большинство. Позже он сказал брату Питеру:
— Трудно!
— Кому легко?
— Башка трещит. Взрослые люди — крик, драка! Как дети.
— Гидеон, они не знают — работать вместе, работать порознь. Они как дети, верно. Ты хочешь сразу — а они вчера рабы, год назад, два года назад. Пройдет время, поймут.
Но время шло и приносило новые беды. Выборы в конвент были, как начало нового дня, яркая огненная заря. Но после так ничего и не случилось — и жизнь пошла по-старому. Гидеон стал замечать, что негры все чаще заглядывают в окна большого господского дома. Там было полно красивых вещей, и все только об этих вещах и говорили. А против Гидеона у многих был зуб, ибо когда в прошлом году солдаты из какой-то расформированной южнокаролинской части, проходя через плантацию, вломились в большой дом, взяли, что им понравилось, а остальное раскидали, именно Гидеон велел все собрать и отнести назад, а дом снова заколотить. Когда его спрашивали: «Зачем?» — он отвечал: «Это не наше». —
«А платье, что носим? А хижины, где спим? Какая разница?» — «То необходимое, а это нет», — отвечал Гидеон.
А теперь он нашел у Марка серебряную ложку, которой неоткуда было взяться, как только из большого дома.
Значит, что же? — Марк тайком пробрался в дом? Дом велик — столько комнат, столько входов, и выходов, нетрудно где-нибудь оторвать доску и забраться внутрь. Но в первый раз Гидеон не знал, как ему поступить со своим ребенком. Раньше он всегда знал, никогда даже и не задумывался; но теперь его страшило и угнетало сознание своего беспредельного невежества. Каждый вечер он садился у огня со списком слов в руках, которые написал для него брат Питер. «Мущина, женщина, доч, ты, негр, белай, возми, авца» и так далее, — гора новизны, перед которой он стоял ошеломленный и оробелый. Хорошо и дурно, правильно и неправильно, эти великие постоянные величины превращались во что-то изменчивое и подверженное сомнению, — и вместо того, чтобы строго наказать Марка, Гидеон неуверенно спросил:
— Как ты вошел в дом, Марк?
— Я не ходил.
Вот, значит, как. Марк лжет. «Нет, он хороший мальчик», — мысленно возразил себе Гидеон. Путаница усиливалась, неразрешимых вопросов становилось все больше.
— Где взял ложку? — продолжал допрос Гидеон.
— Нашел.
— Не ври, Марк. Говори по правде.
— Нашел.
— Где?
К этому Марк был не подготовлен, и мало-помалу правда выплыла наружу. Они забрались в дом через погреб под кухней. Другие мальчики тоже кое-что взяли — шелковые платки, серебро. Высечь Марка Гидеон не мог; он никогда не поднимал руки ни на кого из детей — ни один негр этого не делал. Пусть белые секут своих детей — негру слишком хорошо известно, как жгут спину удары плети. Гидеон созвал собрание. Он вывел Марка вперед, и тут, перед всеми — каждое слово вонзалось в мальчика, как нож, — Гидеон рассказал, что произошло. Брат Стефан спросил:
— Большой дом, он стоит без пользы. Долго так будет?
— Сколько надо. Хоть до второго пришествия.
— Негр живет в грязной лачуге, а проклятый дом стоит, никто не живет.
— Хоть до второго пришествия, — упрямо повторил Гидеон.
Этой ночью Рэчел укоряла его, рыдая: — Как мог сделать так мальчику, Гидеон!
— Как надо, так и сделал.
— Перед всеми — рассказал, опозорил...
— Он сделал дурно.
— От этого голосованья одно дурное.
— Как так?
— Ты в Чарльстон, я опять одна, негры ворчат, злятся, все только дурное, ничего хорошего.
Гидеон притворился, что спит. Рэчел умолкла, и он слышал, как она тихо плачет.
В пятнадцать лет Джеф был как скованный звереныш, который мечется и грызет свои цепи. Он был силен и упрям, как дикое животное. Для него Гидеон был старик, брат Питер был старик; они скручивали мир, как жгут, и петлей затягивали у него на шее. Он чувствовал себя в плену, он жаждал порвать путы и быть свободным. В этом глухом углу, где никто не умел как следует ни читать, ни писать, время опять стало таким же растяжимым и первобытным, каким оно было много тысяч лет назад. Даже часов ни у кого не было; по небу плыло солнце — большой, оранжевый циферблат, а медленное шествие времен года служило единственным календарем. Джефу шел шестнадцатый год, и все, что относилось ко времени до войны, было для него лишь смутным, недостоверным воспоминанием. Вечные разговоры о разнице между рабством и свободой мало его трогали: он родился в годы хаоса, и раннее его детство протекало в хаосе.
Читать дальше
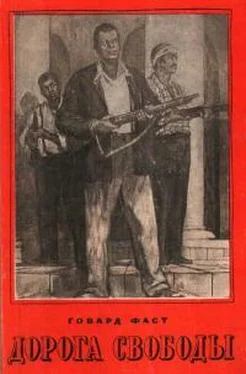
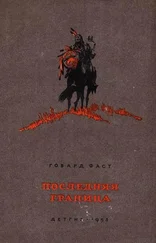
![Говард Фаст - Подвиг Сакко и Ванцетти [Легенда Новой Англии]](/books/24319/govard-fast-podvig-sakko-i-vancetti-legenda-novoj-thumb.webp)

![Говард Фаст - Муравейник Хеллстрома.[Херберт Ф. Муравейник Хеллстрома. Фаст Г. Рассказы]](/books/84780/govard-fast-muravejnik-hellstroma-herbert-f-mura-thumb.webp)