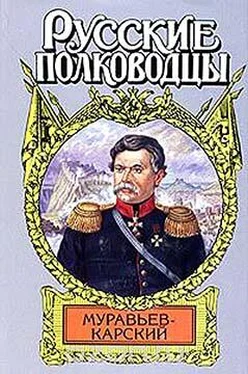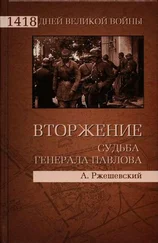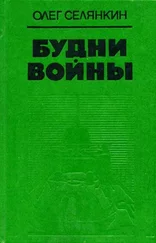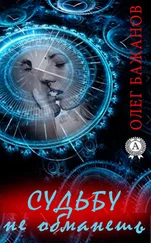«А там уж и помирать можно. Но до этого — ни-ни! Вези свой воз, покряхтывай, но вези. Это твой долг перед Родиной, матушкой-Россией, а всё остальное не имеет никакого значения!» — думал частенько старый полководец, поглядывая на многочисленную норовистую свиту или перечитывая нетерпеливые и раздражённые письма царя.
Вот и сейчас рано утром, после одного из величайших сражений в истории человечества, в котором его армия бесстрашно выстояла в битве с гениальным полководцем, он не предавался гордым иллюзиям, а уже деловито размышлял о том, что будет делать после того, как оставит Москву. А пока мудрый стратег играл партию с гениальным тактиком, исподволь заманивая его в западню, — военная жизнь, полная не только суровых испытаний, страданий и горя, но и высокого полёта патриотического духа русской армии, всего народа и страны в целом шла своим роковым чередом: москвичи покидали свой родной город. Тому, кто никогда не переживал раздирающего душу чувства бессильной ненависти и стыда, которое овладевает всем существом военного, вынужденного отдать врагу свой родной кров, свой город, где он родился и вырос, тому просто не понять, что переживал Николай Муравьёв, проезжая по московским улицам 31 августа 1812 года.
Прапорщик с трудом пробирался на коне по центру Москвы. Человеческое море захлёстывало его. По улицам сплошным потоком ехали роскошные кареты рядом с простыми телегами, щегольские дрожки и обшарпанные, просторные семейные рыдваны. Вот мимо остановившегося прапорщика проезжает на скрипучей, старой коляске поп, надевший одну на другую все свои ризы. По его медному круглому лицу катятся крупные капли пота. Но он даже утереться не может широкими рукавами: на его коленях — огромный узел с церковной утварью, сосудами и старинными книгами. Рядышком пристроился с большой иконой дьячок, зажатый между попом и дородной попадьёй, в руках которой весело блестит на теплом солнце самовар. Их коляску тащат, выбиваясь из сил, старая кляча и припряжённая ей в помощь корова, она испуганно смотрит по сторонам и громко, жалобно мычит. А рядом с ними в открытой коляске, забитой всяким домашним скарбом, на вьюках и перинах восседает купчиха в парчовом наряде, жемчугах и разноцветных шалях, во всём, что не успела уложить в сундуки. Мимо продолжали проплывать странные фигуры: то мужчина в каком-то платке на голове с кастрюлей в руках, то женщина в мужской шинели, а вот другая в байковом сюртуке. Плакали дети, цепляющиеся за юбки матерей, сидящих в экипажах или бредущих по пыльной дороге. У Николая было такое впечатление, что весь этот люд опрометью выбегал из своих домов, хватая из своего добра то, что попадётся под руки. В общем, ехали кто в чём попало, лишь бы вывезти побольше с собой, не оставлять же в добычу злодею! Над всей этой толпой стояло облако пыли, слышалось громкое ржание лошадей, мычание коров, и что особенно неприятно поразило молодого прапорщика, так это почти непрерывный, жалобный и тоскливый вой собак, сопровождавших своих хозяев.
Николай с трудом пробился сквозь толпу, на которую хотелось смотреть то улыбаясь, то плача, и наконец въехал во двор большого дома на Дмитровке, где вот уже двенадцать лет жила его семья. Отец прапорщика, Николай Николаевич Муравьёв, был управляющим у князя Урусова, своего отчима, он завещал ему за многолетние труды этот дом и подмосковное имение Осташево, кстати, сейчас уже занятое французами. Громко стуча каблуками по ступенькам лестницы, прапорщик взбежал наверх в бельэтаж, в знакомые комнаты, которые покинул полтора года назад, уезжая на службу в Петербург. Его шаги глухо раздавались по пустым залам просторного особняка. Семья Муравьёвых уже давно выехала в Нижний Новгород, оставив здесь только несколько слуг. Навстречу вышел в расстёгнутом нараспашку мундире старший брат Александр, служивший также квартирмейстером в армии.
— Тише, тише, не шуми, — проговорил он, размахивая длинными руками, — Михайла умирает. У него антонов огонь показался, и теперь ему операцию делают.
Николай осторожно вошёл в кабинет, где на столе лежал младший брат. Над его ногой склонился доктор с засученными рукавами и скальпелем разрезал загнившую рану, пуская из неё кровь и гной. Михаил посмотрел на вошедшего мутными от нестерпимой боли глазами и кивнул. Закусив побелевшие губы, он не издавал ни звука, только громко сопел, набычившись.
Николай почему-то вспомнил, что младший братишка вот так же вёл себя в этих же стенах кабинета, когда отец, строгий преподаватель военных наук и математики, спрашивал его урок, который он не успел выучить. Стоял, вобрав большую, круглую голову в плечи, и, насупившись, тяжело сопя, молчал. Правда, это бывало редко. Михаил обладал блестящими способностями, особенно к математике. В ней он преуспел больше всех, хотя со времён деда, автора первой русской алгебры, в семье Муравьёвых эту науку все мужчины знали блестяще.
Читать дальше