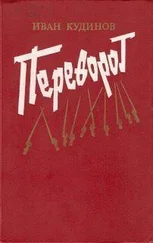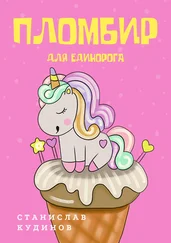— Как не стыдно, молодые люди, помогите же человеку…
Несколько гимназистов, повзрослее и побойчее, кидаются к санкам, кто-то протягивает руку, но Елена Егоровна, смеясь, отстраняет ее:
— Да не мне, учителю помогите.
Никто не знает, зачем приезжала жена директора, да и пробыла она в гимназии считанные минуты, вышла вскоре в сопровождении Фортуната Петровича, села в санки и укатила — была и не было. А разговоров на целый день. И день тот вышел какой-то скомканный, суматошный, хотя внешне как будто и осталось все неизменным — своим чередом шли уроки, в обычном виде являлись на урок учителя, каждый со своими претензиями и причудами. Учитель словесности Радомский, прозванный Кокосом, как только вошел в класс, глянул коршуном, выискивая жертву, быстро подошел к съежившемуся, втянувшему голову в плечи ученику, с подозрительной ласковостью спросил:
— Ну-с, дружок, а ты кокосы едал?
С этого он обычно начинал все свои уроки, и редко кому удавалось перехитрить его, избежать «кокосов». Ученик сидит ни жив ни мертв, бормочет едва слышно:
— Едал, едал…
Радомский хохочет раскатисто и бьет казанками пальцев по голове несчастного ученика, потом еще и еще, бьет и приговаривает:
— А коли едал, отведай еще… Откушай, милостивый государь!
Потом приходит учитель рисования Антаков, хромой, на костылях, в таком жалком и ветхом костюме, что, кажется, вот-вот он рассыплется в прах, костюм его, и учитель Антаков предстанет перед классом в чем мать родила… Проковыляв к столу, он садится, прислоняя костыли рядом, к стене, и взгляд его, сумрачный и неясный, начинает блуждать по рядам; все знают, что значит этот взгляд, знают и ждут — на кого падет выбор. Наконец взгляд учителя останавливается на одном из учеников, по воле случая им оказывается тот самый ученик, который уже получил от словесника порцию «кокосов». Антаков улыбается застенчиво, манит пальцем, подзывает к себе ученика.
— Дружочек, — тихим, вкрадчивым голосом он говорит, — сходи-ка в лавку к отцу своему… — Он уже давно, учитель рисования Антаков, знает всех сыновей лавочников, знает и отличает по-своему. — Сходи-ка, дружок, в лавку да принеси мне фунт миндалю… А я тебе потом зачту.
Довольный ученик мигом выскакивает из класса, а учитель рисования, по прозвищу Фунт, начинает урок. Но что это был за урок, описать невозможно, поскольку Антаков, жалкая личность, безграмотный совершенно, не окончивший даже уездного училища, о рисовании имел самое смутное и отдаленное представление. Попал же в гимназию он по протекции инспектора Прядильщикова, у которого якобы написал акварелью портрет кухарки… Прядильщиков позже на этой кухарке женился, портрета же ее так никто и не видел.
Пока отряженный в лавку за миндалем ученик отсутствовал, класс был предоставлен сам себе — занимались кто чем вздумает, гул стоял, как на базаре… Но вот и посланец появлялся, торжественно держа в руках бумажный сверток и улыбаясь во весь рот. И в этот момент раздавался звонок…
Но, пожалуй, самыми шумными, веселыми и желанными были уроки грамматики. Входил Требушинский, и класс замирал в ожидании очередного представления. Требушинский, однако, не спешил, точно испытывая терпение учеников, быстро прохаживался вдоль рядов и говорил многозначительно:
— Ах, господа, вся наша жизнь подчинена воле случая. Да-с! — печалился он. — В моей жизни было немало случаев, достойных внимания. Помню, лет двадцать назад…
— А зверинец? — напоминал кто-нибудь. — Михаил Михайлович, вы же обещали сегодня воспроизвести голоса домашних животных: коров, собак, петухов…
— Ах, господа, вы меня огорчаете, — вздыхал он с такою искренней горечью, что класс не выдерживал и тоже дружно вздыхал. — С каких это пор петухи стали животными? Вы меня огорчаете, господа… Но что с вами поделаешь? — разводил он руками, с минуту еще колебался, выжидал, затем снимал очки, тщательно протирал рукавом залоснившегося от этих постоянных протираний сюртука, подносил ко рту и, подышав на стекла, протирал еще раз, неторопливо надевал… Вдруг лошадиное ржанье, радостное и торжествующее, оглашало класс… И как ни ждали ученики этого момента, не сводя глаз с учителя, заглядывали ему в рот, происходило это всегда неожиданно, вдруг, вызывая бурю восторгов.
Михаил Михайлович был в этот день особенно в ударе, и все у него выходило так натурально, как никогда: он кудахтал, мычал, блеял и хрюкал, а под конец выдал такую петушиную руладу, которая, совпав с звонком, возвестившим об окончании урока, победно вырвалась из класса и разнеслась по всему коридору…
Читать дальше