Осенью, когда, по его счету, оставалось ему еще целых пятнадцать недель отсидки в «Крестах», так же вот внезапно вызвали из камеры, привели в канцелярию и сказали, что поступил приказ из департамента полиции: немедленно отправить в Восточную Сибирь. Когда радостная оторопь слегка схлынула, полюбопытствовал: почему столь внезапно?
Ответили, что на основании «высочайшего повеления 12 апреля 1890 года».
И никаких больше пояснений. Наверно, и само тюремное начальство было в недоумении. А он тем более. Каким образом давнее «высочайшее повеление» коснулось его, и, если уж оно имело к нему касание, то почему вспомнили о нем только сейчас?
Когда опамятовался, то прежде всего упрекнул себя в том, что, столько времени промечтав о дальнем путешествии в неведомую и страшноватую Восточную Сибирь, по сути дела, еще и пальцем о палец не ударил, чтобы приготовиться к этому путешествию. Но, с другой стороны, нелепо было и собираться загодя, не будучи даже уверенным в сроках. В запасе были самое малое пятнадцать недель, а теперь вот — поскольку сказали ему «немедленно» — эти пятнадцать недель обратились может быть, в пятнадцать часов?
Следующая мысль была еще тревожней. О чем голова разболелась? Не о себе должна быть забота. Он — мужчина, в конце концов что ему! Голому собраться — только подпоясаться. А Катя? Она-то как сможет собраться с такой сумасшедшей стремительностью? Это ведь не в Парголово съездить, даже не в Воронеж…
А следом за этой — мысль еще тревожнее. Захочет ли она в эту треклятую Восточную Сибирь? Судя по всему, хотя бы по той же «шляпочной истории», она там «принята в обществе», освоилась, жизнь, какою бы стесненной она ни была, вошла в колею. Ей осталось прожить в этом вологодском захолустье два года с небольшим… Стоит ли ей ехать в такую даль, в неизвестные условия жизни, в неизведанный климат, да еще на целых пять лет!
Ему, прежде всего ему, следует об этом подумать. Да тут и думать нечего, надо отговорить, убедить, если она будет настаивать, иначе — эгоизм, самый постыдный, самый бессовестный эгоизм.
А если взглянуть с другой стороны? Хорошо ли оставлять ее здесь одну? Ведь это значит взвалить все на нее, чтобы уже она терзалась мыслью о своем эгоизме? Да и к чему все эти размышления и терзания? Ведь все обговорено, обо всем условились. Что изменилось? На три с половиной месяца раньше раскрылись тюремные ворота. Ну и отлично! Раньше уедут в эту самую Восточную Сибирь и, значит, раньше расстанутся и с нею тоже!
Так же думала и Катя. И сказала ему о своем мнении почти этими же словами.
Первый, очень короткий, разговор состоялся между ними в канцелярии московской пересыльной тюрьмы, Куда их привели для «опознания» друг друга. Сюда, в печально знаменитую «Бутырку», доставили Катю из вологодской глуши. А он к тому времени уже более двух недель пользовался прелестями «Бутырки».
Воистину все относительно. Он вспомнил, как томился в своей одиночке в «Крестах», сколь беспросветно унылым был каждый день тюремного существования, как сопротивлялось все его существо монотонно казарменным порядкам, установленным как бы специально для того, чтобы ежечасно и ежеминутно напоминать заключенному, что он не человек, а лишь тень человека, и соблюдавшимся с поистине железной неумолимостью. Но, сопоставив здешние порядки с тамошними петербургскими, сказал себе, что по сравнению с «Бутыркой» «Кресты» могут сойти за тихий семейный пансионат. Во всяком случае, здесь в московской пересыльной, не только не могло быть ни газет, ни цветов, по и самая мысль о возможности подобных послаблений в режиме показалась бы дикою и каждому тюремщику и каждому заключенному.
— Я сам себе кажусь тираном, — сказал он тогда Кате, — что принудил тебя ехать со мной.
— Ты наивен и самонадеян, как всегда, — весело возразила Катя. — Еще не родился человек, который мог бы принудить меня сделать то, что я не хочу делать.
— Тебе там было лучше, — сказал он, не принимая шутки, — у тебя сложился круг знакомых…
— Вот тут ты абсолютно прав, — сказала Катя, — ты безвозвратно лишил меня общества попадьи, заменить которую ты не в состоянии.
И когда он, замолчав, улыбнулся и махнул рукой, сказала уже совершенно серьезно:
— Когда мы будем вдвоем, время пойдет вдвое быстрее. — И снова с улыбкой: — К тому же, нам скостили почти четыре месяца. Выше бороду, Петр Петрович!
Об Олтаржевском Катя заговорила сама.
Было это, кажется, в этапе, следовавшем из пензенской пересыльной в самарскую, или из самарской пересыльной в челябинскую, а может быть, из тульской в пензенскую… Везли их в Восточную Сибирь как-то странно. Первый этап из Москвы был отнюдь не на восток, а на юг. Сперва повезли в Тулу. Оттуда в Пензу. Оттуда в Самару и так далее.
Читать дальше
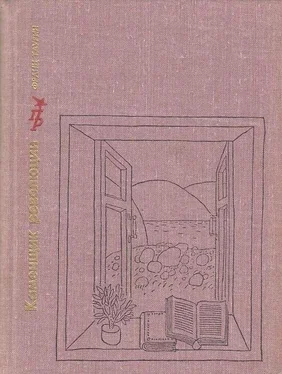
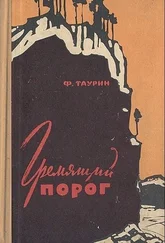


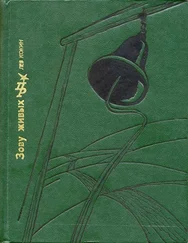
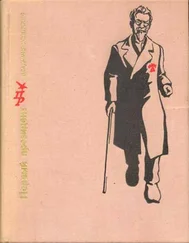

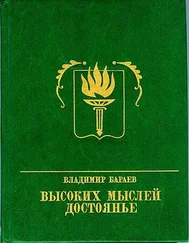
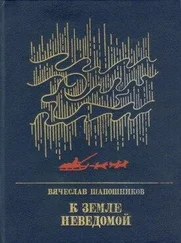

![Микаел Шатирян - Генерал, рожденный революцией [Повесть об Александре Мясникове (Мясникяне)]](/books/395098/mikael-shatiryan-general-rozhdennyj-revolyuciej-pove-thumb.webp)

