– Это итальянский художник, – объяснил Уилки. – Тут не английская плоть и свет не английский. Тени слишком четкие, свет слишком прозрачный и яркий. Такой розовый, такой коричневый цвет в нашей природе не встретишь. Наш эрос – не кобальт, не терракота. И не карне котта [150] Печеное мясо (ит.). Терракота (ит.) – жженая земля.
. Он лесной, водный, подернутый дымкой. Английская Аркадия [151]– это бурелом, заросли и вода, размывающая след. Так да здравствуют кущи и полунощная поляна из «Влюбленных женщин», да здравствует любовник леди Чаттерли, нагишом бегущий под лесным ливнем!
– «Довременный восторг осязания мистической инакости». – Фредерика не без успеха ввернула фразу, над которой особенно любила потешаться. – Нет уж, спасибо!
В Солнечном покое миссис Брайс объявила, что у нее разболелись ноги, уселась на резной сундук и стала растирать щиколотки. Рид и Брэйтуэйт в восторге сгребали бумагу с огненных покровов пышной постели. На стенах разворачивалась в гипсе хроника Аполлоновых любовей. Кроу указал на Дафну [152]– подлинный, как сказал он, шедевр здешнего мастера. Это так по-английски: из деревенеющих суставов выстреливают побеги, человеческие жилы переходят в жилки на листьях, ноги в прыжке пускают корни и стремят к земле. И это личико: не нимфа греческая, а староанглийская лесная фэйри. Марина Йео прочла Марвелла, но не от лица нимфы, а взывая к древу [153] Отсылка к стихотворениям Эндрю Марвелла (1621–1678) «Плач нимфы по возлюбленному фавну» и, вероятно, «Сад». Ниже отрывки из его же стихотворения «К робкой возлюбленной».
. Рид и Брэйтуэйт вспомнили его же: о «растительной любви» и ее «безмерном разрастанье». Кроу взял Фредерику за локоток и указал вверх:
– Это лучше, чем в Лунном покое. Якопо, как я подозреваю, не был большим поклонником женского пола. Но здесь: посмотри только!..
Роспись изображала смерть Гиацинта [154]и была в сомнительном вкусе, если можно так объяснить неловкое чувство, находившее на большинство зрителей. Нагой, бледно-золотой солнечный бог с кудрями, красиво рассыпанными по узким плечам, раскинул руки то ли в ужасе, то ли в страстном восторге, склонясь над идеализированным, смуглым юношей, обмякшим, истекающим на алый песок еще более алой кровью. Кровь разбегается красивыми струйками и по краям лужиц уже расцветает гиацинтами, лилово-пунцовыми среди терракоты и шарлаха. Бог чуть склонил голову набок, словно созерцая дело своих рук. Веки его полуопущены, широкий рот приоткрыт и растянут углами вниз: высшая мука, а может, глубочайшее наслаждение. Абсолютное чувство, застывшее маской.
Кроу покрепче сжал ей локоть:
– Посмотри, какая линия. У Аполлона внутренняя линия бедра повторяет линии бедер мальчика. Посмотри, какое безмыслие в обоих лицах. А голова в луже крови – повторенные полукружия…
– Он мертвый, – сказала Фредерика. Почему-то важно было это сказать: Гиацинт мертв.
– Смерть и экстаз… Тогда эти образы заменяли друг друга.
– И сейчас тоже, – вставил Уилки. – Именно так оно и выглядит. И смерть, и экстаз.
Уилки говорил с апломбом, и Фредерике не захотелось доискиваться, откуда он все знает.
– Обрати внимание: другая перспектива, – продолжал Кроу. – Там весь мир был заключен в ровно освещенном куполе. А тут пустыня, линия горизонта убегает за окоем, взгляд должен бежать следом. Тут нельзя застыть и вбирать… И в этой пустыне бесформенной – идеально сформированная центральная группа. Идеальная композиция. Видишь, капельки крови блестят у Гиацинта на боку? А теперь посмотри на лепестки цветов. Тот же очерк, только перевернутый. Тут пирамида, составленная из множества частичек, устремленных вверх или вниз, как эти капельки. Голова Аполлона – вершина, а дальше завитки волос, изгибы тел. Это аллегория: круг рождения и смерти под солнцем. Кровь каплет в землю, из земли вырастают цветы…
– Лазурная плоть, – произнес Уилки, снимая очки. – А поверх лазури – парадоксом – холодные красные оттенки.
– У него жестокий рот, – сказала Фредерика.
– Он был жестокий бог, – отвечал Кроу. – Мифы о нем жестокие. На десерт я вам приберег моего Марсия [155] Сатир Марсий, искусно игравший на свирели, вызвал Аполлона на состязание. Судья, фригийский царь Мидас, отдал победу Марсию. Разгневанный Аполлон наделил Мидаса ослиными ушами, а с Марсия заживо содрал кожу и повесил у входа в пещеру. С тех пор шкура Марсия дергается и пляшет, когда послышатся звуки свирели.
. И посмотрите еще на другие фигуры. Искусствоведы говорят, нимфы и пастухи. Крайне маловероятно, говорю я. Девы справа, в классическом хороводе, – девять муз. Слева – весьма двусмысленно скачущие – это посвященные, оргиасты, истязавшие себя во имя Гиацинта, Адониса, Таммуза. А всё вместе – символ бесконечности, удлиненная восьмерка, лежащая на боку. Проследите за линиями их рук, тел. Перекрест в центре, там, где тела Аполлона и Гиацинта почти… Видите? Почти соприкасаются. О, мудрый Якопо был причастен тайным знаниям и неоплатоническим мистериям! Аполлон здесь явлен как принцип порядка и хаоса, творчества и разрушения. И возрождения, разумеется, и всего прочего. Румяная плоть и твердый мускул.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Антония Байетт Дева в саду [litres] обложка книги](/books/384518/antoniya-bajett-deva-v-sadu-litres-cover.webp)

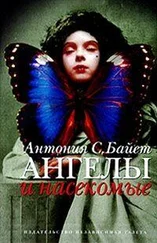
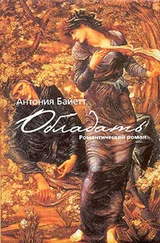

![Антония Байетт - Призраки и художники [сборник]](/books/31741/antoniya-bajett-prizraki-i-hudozhniki-sbornik-thumb.webp)
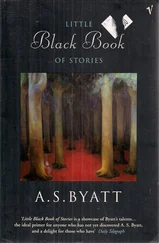
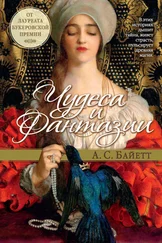

![Антония Байетт - Обладать [litres]](/books/428981/antoniya-bajett-obladat-litres-thumb.webp)
