Фредерика противилась лишь неодолимым искушениям. Кроу повел ее к «бентли», который ждал их, поблескивая, на подъездной аллее. Пассажирское сиденье оказалось до непристойности комфортабельным. Фредерике на секунду вообразилось желание надругаться над вещью, большим ножом вспороть и искромсать эту гладкую, тонко пахнущую кожу. Это сперва поразило, а потом заинтересовало ее. Она сложила руки на коленях, а Кроу поддал газу, потом еще, и автомобиль гладко и жутко понес их мимо полей, клочков пустошей, каменных оград, и они проплывали словно ленты, серые, бурые, тускло-зеленые и желтоватые.
Кроу провел ее темными, тихими залами среди белых чехлов. Свет выхватывал круглые яблочные груди и мощные колени гипсовой Венеры и Дианы, озарял бледное тело Актеона. Елизавету – Деву Астрею освещал единственный острый луч, устремлявшийся потом наверх в темноту и в ней затуплявшийся. Ото всего тянуло каменным холодом и сквозняками. Кроу поспешно цокотал сквозь залы, Фредерика мчалась. Наконец они достигли жарко натопленного, светлого кабинетика. В камине мерцал настоящий огонь. Кроу усадил Фредерику в глубокое, крылатое вольтеровское кресло и вручил ей гигантский стакан с карим шерри, красно-золотым на просвет каминного огня. Протянул тарелочку с солеными орешками, и Фредерика жадно цапнула сразу горсть – всегда так делала на случай, если хозяин забудет и больше не предложит. Кроу рассмеялся. Впрочем, она напрасно беспокоилась: он был заботливый хозяин и не забывал пополнять шерри в ее стакане.
Кроу стал говорить с Фредерикой о ней самой. Разговор его порхал и касался ласково, щекотал лестью, как перышком. С интересом теплым и глубоким, как вкус шерри, Кроу выманивал на свет ее честолюбивые мечты и планы. Сказал, что у нее есть «свое лицо» – такому не научишься, это дар. Что к нему часто прилагается «притяжение» – им она тоже не обделена, а потому всегда будет неотразима: не для всех, но для совершенно определенного рода мужчин.
Кроме всего прочего, 1953 год был знаменателен для Фредерики тем, сколь многие предлагали ей и даже навязывали определения ее самой, обычно провисавшие меж трех метафорических стульев: афористической мудрости, расхожей банальщины и чистой правды. Слова Кроу подействовали на ее раздраженное сознание, как ритмические движения щетки на спутанные волосы: Фредерика расправила плечи, охорошила ум и тело и, милостиво улыбнувшись, осушила еще стакан шерри.
Кроу продолжал:
– Сам я не получил в колыбель никакого дара. Я лишь люблю и пестую чужие дары. От этого, признаюсь, делаешься слегка стервозен: когда столько всего вложил в человека, невольно ожидаешь от него сверх меры. Это завуалированная угроза, которую ты, конечно, проигнорируешь, ибо что еще тебе остается. Мощь, сила – вот что прельщает меня.
– Ну, в нашем графстве вы изрядная сила.
– Это другое. Я – лишь временный хранитель богатого наследства. А твоя сила – у тебя в крови.
Он сел в кресло возле бюро, подозвал Фредерику и показал миниатюру: хмурая, в яхонтах, в карем бархате, глянула на нее несчастная Джоанна Сил, обрезанная рамкой как раз под грудками, поднятыми тугим корсетом. Положил пухлые ручки ей на талию и объявил, что в некоторых натурах врожденная сила производит настоящее электричество. Фредерика, например, явно искрит и постреливает, что весьма интересно… При этих словах он ловко усадил ее к себе на колени.
Фредерика оторопела – по той простой причине, что считала Кроу стариком. Она слышала, что в этом возрасте (точный возраст Кроу был для нее, впрочем, загадкой) мужчины часто принуждены вместо дел довольствоваться беседами. Потому смущенно-кокетливые взгляды, бросаемые в ответ на особо двусмысленные пассажи Кроу, она считала гуманным делом, чуть ли не снисхождением к старику с сияющих высот полнокровной юности. (Смущение не вязалось с ее спесивой лисичьей мордочкой, но она еще этого не вычислила и невольно вместо кокетства выдавала натуральный блуд.) Впрочем, стоило Кроу притянуть ее к себе, как стало ясно, что он вовсе не дряхл и весьма искушен. Его ручки пришли в привычное и уверенное движение: ласкали, игриво пошлепывали, шаловливо просовывались тут и там. Фредерике неловко было сидеть: Кроу был несомненно умел, но он также был миниатюрен. Она чувствовала, что ее корпус согнут некрасиво, а ноги как-то нелепо торчат в стороны. Фредерика попыталась улыбнуться, но улыбка не получилась: она пригибала голову, чтобы Кроу не приходилось тянуться, отчего у нее постепенно сводило шею. Кроу в любви оказался столь же словоохотлив, как Эд был молчалив.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Антония Байетт Дева в саду [litres] обложка книги](/books/384518/antoniya-bajett-deva-v-sadu-litres-cover.webp)

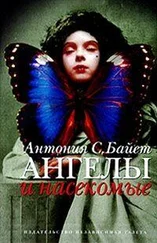
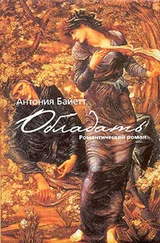

![Антония Байетт - Призраки и художники [сборник]](/books/31741/antoniya-bajett-prizraki-i-hudozhniki-sbornik-thumb.webp)
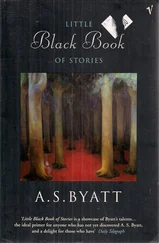
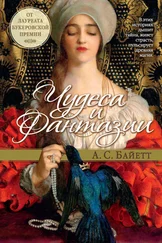

![Антония Байетт - Обладать [litres]](/books/428981/antoniya-bajett-obladat-litres-thumb.webp)
