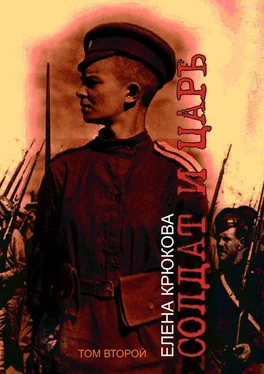Григорий в могиле. Они живы.
Но как это он сказал тогда, в Зимнем дворце, задрав голову и глядя на прекрасный большой, в рост, парадный портрет царя кисти Валентина Серова: «Погоди, матушка, еще погоди немного. Вот меня убьют, а там и вам недолго».
Царь с портрета смотрел на них обоих огромными, насквозь прозрачными, серо-голубыми, чуть в изумрудную зеленину, глазами, и в глубине радужек вспыхивали странные алые огни. Голубая муаровая лента, шевелясь и дрожа, текла через грудь весенней, ледоходной страшной рекой. Глаза драгоценные, а губы под золотыми усами пытаются улыбнуться и не могут. Весь дорогой, любимый, и так послушно позировал Серову, так смирно стоял. Серов писал, кисти звенели о тугой холст, и все бормотал: «Агнец кроткий». Она услышала – и будто ее обварили кипятком.
…Алексей уже сопел. Слава Богу, уснул.
У нее было чувство, что она вяжет сама себе белый саван.
* * *
Из окон столовой виднелись кроны диких яблонь и кусты сирени. Сирень зацвела разом, будто взорвались кусты лиловым безумьем, и цвела буйно, долго и сладко, не осыпаясь, и все, высовываясь в растворенные окна, жадно дышали ею, будто напоследок.
– Мама, а помнишь романс Чайковского? Растворил я окно, стало душно невмочь… опустился пред ним на колени…
Татьяна пела и кружилась посреди столовой. Картины мигали ей со стен тусклыми красками, старым лаком.
– Тата, какой сейчас Чайковский!
Царь стоял у окна и смотрел вниз. На город.
– Е-ка-те-рин-бург… – шептал.
– И в лицо мне пахнула душистая ночь… благовонным! дыханьем! сире-е-ени!
– Ники, дети, пойдемте в залу!
Зала, гостиная. В зале спали доктор Боткин и слуги Седнев и Чемодуров. Господи, как же это люди будут жить без слуг? А ведь в умных книжках пишут, что да, несомненно, настанет такое время. Все будут сами себя обихаживать. А может, им будут помогать умные механизмы. Прогресс идет, его не остановить!
И везде, всюду часовые. Везде охрана. И около уборной. И близ кухни. И двое – всегда – около столовой. И целых четверо, топчутся, пахнут табаком и водкой и потом, вечно хотят курить – около спальни. Ну как же, в спальне самые драгоценности и заключены. Спальня – это шкатулка. Не дай Бог из нее сокровища пропадут. Они ух много денежек стоят.
…и жизней… жизней…
А около уборной – ванная комната; и царь всякое утро велит набрать себе из колодца холодной воды, налить в ванну, и сам, в чем мать родила, туда прыгает.
«Полко-о-овник… вышколенный. Холод, голод ему нипочем. Ай да царь!»
Лямин стоял на карауле около уборной, нюхал запахи хлорки, слушал, как крякает и плещется царь в ванне.
Все они, как под лупой, смотрели на все, что царь делает. Как ест. Что пьет. Как спит. Как в окно глядит. Видели, слышали все. Вот напевает. Вот курит. Вот плачет, прислонив козырек ладони к русым бровям. Вот целует старую жену. Вот дочек обнимает. Вот на сгибе руки сынка носит по комнате, а в глазах такая тоска, а рот улыбается и говорит, говорит.
– Сейчас идем, Аликс!
– А в саду где-то чудно запел соловей… я внимал ему с грустью… глубокой!..
– Рояль! Рояль! Маша, к рояли! А я певица! Я Аделина Патти!
Лямин не впервые слышал, как Мария играет. Но, когда она села за рояль и прикрыла стопой круглого медного карася педали, у него по лбу, по спине потек постыдный, жаркий пот.
– И с тоской я о родине вспомнил своей… об отчизне я вспомнил… дале-о-о-окой!
Татьяна шуточно кривлялась, прижимала ладони к выпирающим из-под кружев ключицам. Косилась в окно, во двор. Во дворе, вдоль забора, выстроились часовые. Стояли в ряд. Задрали головы. Слушали музыку. Пересмеивались. Мария нажимала на клавиши, руки ее не порхали и не летали – она еле передвигала их по клавиатуре, цепляя, как коготками подранок, желтые, с ямками от тысяч уже мертвых, истлевших пальцев, старые рояльные зубы. Бросила играть. Закрыла щеки ладонями.
У Татьяны брови поползли вверх.
– Ты что, Машка?
Мария посмотрела через рояльный резной пюпитр в открытую дверь.
– Эти двери, – ее губы дрожали, она говорила нарочно громко, – вечно открыты. Тата! Закрой!
– Но… – Татьяна мяла кружева под яремной ямкой. – Запрещено же…
Мария вскочила, чуть не запнулась за педаль. Подбежала к двери.
Никогда еще Лямин не видал у нее такого злого лица.
На ее лице крупными черными мазками было написано отчаяние.
И еще: Я ВАС ВСЕХ НЕНАВИЖУ.
* * *
Михаил плашмя лег на кровать. Теперь у него была, наконец, кровать. После всех скитаний.
Читать дальше