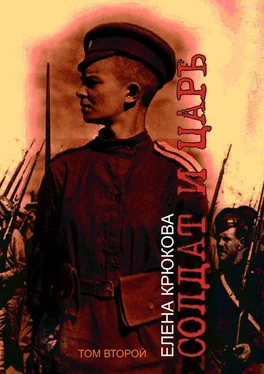Харитонов тоже нес корзину. В ней спали вареная картошка и соленые помидоры. И еще пачки макарон, и несколько пачек чая, и банка меда – прощальный подарок старой актрисы императорских театров Лизаветы Скоробогатовой, жившей напротив Губернаторского дома. Лизавета отдала мед в руки смущенной Анастасии, перекрестила ее, земно поклонилась и ушла.
Что-то ведь происходит навсегда. И никогда больше…
Погрузились в вагоны. Паровоз издал истеричный гудок, и поезд двинулся. Сначала медленно, потом быстрее. Колеса стучали, девочки переглядывались.
– Ольга, ты есть хочешь?
– А ты?
– Мы-то ладно. Алешинька, ты будешь есть?
Алексей лежал на верхней полке. Рядом с ним стоял Клим Нагорный.
– Климушка, а если поезд тряхнет, и братик упадет?
Матрос налег грудью на полку, расставил руки, изобразил из себя медведя.
– Да никогда! Вот как я его защищу!
Смех чистый, будто ледяшки или стекляшки перекатываются.
Цесаревич лежал на спине, и повернул голову; глаза закрыты, и вдруг открыл – можно утонуть в этих радужках. Мать передала ему этот, без дна, взгляд. Будто кто-то огромный внезапно вычерпал землю, и туда хлынула вода, и ее прозрачность безмерна: гляди в нее, и увидишь, как на дне ходят рыбы, как горят золотом камни и скорбно шевелятся водоросли. А вот плывет маленькая желтая рыбка, она сама прозрачная, просвечена насквозь – все внутри видать: и скелет, и кишки, и пузырь, и дышащие жабры. У рыбки нет чешуи, она вся слеплена из золотого жира, а может, выточена из желтого минерала.
Так он смотрит. Глаза-озера, глаза-моря.
…эти глаза многое знают из того, что люди еще не знают.
…но его рот об этом молчит. И верно. Ничего говорить не надо. Все произойдет само. В свой черед.
В вагон, где ехал Харитонов, послали гонца – Нагорного. Цесаревича сняли с верхней полки и осторожно усадили на нижнюю. Он глядел в окно, подперев голову руками, слишком тонкими в запястьях. Пришел Харитонов, на вощеной бумаге разложили желтые кругляши картошки, красные мячи соленых помидор, а когда открыли банку с черемшой, и острый чесночный дух наполнил вагон, перебив запах мазута и паровозной гари – все от неожиданности громко засмеялись.
– Ой, что это?
– Это черемша! Сибирский дикий лук!
…И ели, и неприлично облизывали пальцы, и сердито-ласково подавала Татьяна Алексею синие салфетки, вынимая из ридикюля.
Вот, ешьте эту простую, великую, народную еду. Такую еду ест ваш народ. А вы…
…а мы тоже ее едим, мы же всегда с нашим народом, я – с моим народом, и я, и я, и я тоже…
* * *
Колыханье поезда то усыпляло, то раздражало. Колеса били спящих по голове. Рельсы в полудреме становились стальными руками, руки тянулись к ним, вот-вот достанут. Нагорный лег рядом с Алексеем, чтобы он не свалился. Ольга села на верхней полке. Полка под ней скрипела. Несмазанный винт, старый болт. Она боялась: поезд затормозит, и она полетит с полки вниз, и расшибется. Люди ребра ломают, когда с вагонных полок падают.
Спустила ноги. Спрыгнула. Вкусно и сильно пахло черемшой. От них ото всех тоже, наверное, пахнет; черемша крепче чеснока. У Ольги на плечах ажурный пуховый платок. Закутала в него шею, плечи. Носом дышала в шерсть, грела нос.
Кинула взгляд на полку напротив. Глаза Анастасии, бессонные, огромные, как у матери, – иконописные, – уставились на нее.
– Что не спишь?
– Оля, не сердись, прошу тебя.
– Я не сержусь.
– Я не сержу-у-у-усь, – тихонько пропела Анастасия из Роберта Шумана, – и гнева в се-э-э-эрдце не-е-е-ет…
– Тихо!
– Оля. Я вот хотела спросить. Давно. А можно сейчас спрошу?
– Можно. – Ольга наклонилась к ней ближе.
– Оличка… Вот человек бессмертен, да? – Сама себе ответила: – Да. Душа его бессмертна. И все души предстанут на Страшном суде перед Господом, знаю-знаю-знаю! Но бессмертие это одно, а смерть… – Поежилась. Ольга внимательно слушала, не перебивала. – Смерть это совсем другое.
– Кто же спорит, другое, – тихо, почти бесслышно отозвалась Ольга.
Глаза ее во тьме вагона светились то синим, то серым огнем.
– А что, если… когда мы умираем, мы с собой туда – ну, туда – уносим навсегда – ну да, навсегда! – наш конец? Ну, нашу кончину? Ну вот, например, тебя сбило авто. И ты на всю-всю вечную жизнь остаешься это… переживать. Ну, с этой мукой и остаешься – жить – на всю, всю вечность! Потому что это было твое последнее… земное. Или… например… человек решил покончить с собой. Ну решил и решил, смертный грех, все понятно, но ведь самоубийцы – есть! Мало ли вешаются! В реку с моста прыгают… стреляются! Взвел курок… приготовился… пух!.. последняя боль, ужасная… И… он уже там, понимаешь, ТАМ… а эта ужасная мука все длится, длится… и всю бесконечную загробную жизнь – всю-всю! – он ее ощущает. И с ней всю вечность там – на том свете – так и живет!
Читать дальше