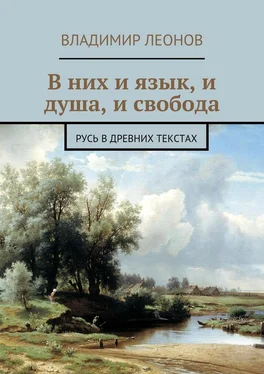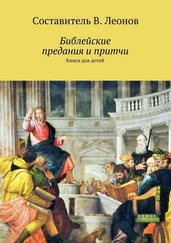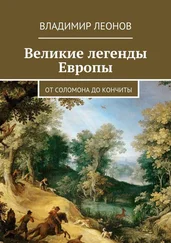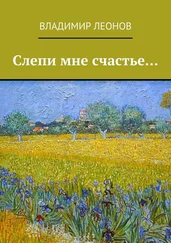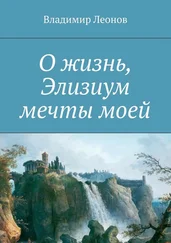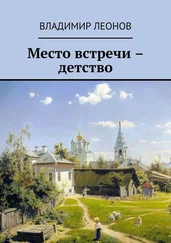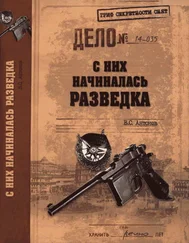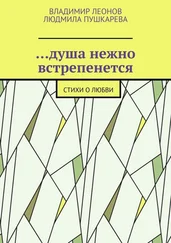Отметим, что этот мотивный комплекс используется в летописи не единожды. Второй случай его использования относится к записи под 988 годом, где речь идет о крещении Владимира. Предшествовало крещению взятие Владимиром Корсуни. Оттуда он посылает в Константинополь, требуя от царей Василия и Константина отдать за себя их сестру Анну и угрожая, в случае отказа, походом на сам Царьград. Правители соглашаются, поставив условием обращение Владимира в христианство – к чему Владимир, согласно летописному преданию, был уже готов. Здесь тоже взятие города (фактически – Корсуни, но предположительно, в случае неудачи сватовства – и Константинополя, в то время ослабленного военным мятежом) связывается с женитьбой на Анне: то и другое становится результатами одного военного похода. «Воцарению» же соответствует принятие Владимиром христианства: с точки зрения носителя новой религиозной культуры этот акт вполне может трактоваться как принятие высшего нового статуса.
Нелишне обратить внимание и на тот факт, что в Повести лишь двое из жен Владимира называются по имени: это Рогнеда и Анна. Именно они оказываются и действующими лицами в двух описанных версиях реализации архаического мотивного комплекса. По-видимому, эти два брака рассматривались летописцем как особенно значительные. И неудивительно. Ведь Рогнеда – варяжская княжна, тогда как Анна – византийская принцесса. Таким образом, при помощи этих двух браков, второй из которых прямо династический, Владимир стяжает родство с двумя ведущими народами современности, варягами и греками.
Зарождающаяся русская нация взяла от сопредельных народов то, что составляло их достоинство в истории. От варягов был взят институт сильной военной княжеской власти, легшей в основу государственного устройства последующих времен. От греков было принято христианство, вводившее Русь в космос европейской культуры. Однако летописец не преминул показать, что то и другое было взято славянами не путем просительства, а с позиции равенства, обеспеченного силой.
Призванию варягов предшествовало их изгнание (862 год). Варяги прежде собирали дань со славянских земель как захватчики. Они были изгнаны. И уже после этого были приглашены Рюрик, Синеус и Трувор, княжение которых заключалось в том, чтобы «судить по праву». Затем, в 988-м году, крещение было принято от греков на фоне убедительной военной победы, поставившей под угрозу суверенитет Константинополя. Как видно, в обоих случаях состоится демонстрация силы, после чего славяне принимают от соседей то, что им необходимо: военно-княжескую власть и начала христианской цивилизации.
До сих пор мы видели, что летописец использует в качестве суггестивного средства обращение к моделям архаического сознания, очень живым и внятным для его современников-соотечественников, людей, лишь недавно оторвавшихся от языческой стихии. Именно такая апелляция к ресурсам архаической психики и становится основным приемом текстопостроения, регулярно используемым летописцем.
Однако и аллюзии и реминисценции, относящиеся к христианской сфере представлений, также присутствуют в Повести в качестве организующих текст приемов. Так, при рассказе о крещении Владимира вводится эпизод со слепотой: князь внезапно теряет зрение, и получает от царицы известие, что прозреет, когда крестится. И действительно, в ходе совершения обряда Владимир прозревает.
Этот эпизод содержит прямую реминисценцию из Нового Завета, из Деяний апостолов (Деян. 9: 17—18). Савл, видный фарисей и гонитель христиан, был поражен слепотой от Бога и прозрел, принимая крещение, после чего он становится апостолом Павлом. Эта реминисценция приводит читателя к сопоставлению двух исторических лиц, апостола Павла и князя Владимира. Обращение и дальнейшая проповедь первого начинает рассматриваться как прецедент к деятельности Владимира. Не случайно в русской средневековой книжности князь Владимир величается как «равноапостольный»: соответствующий концепт уже заложен в Повести.
Другое сопоставление организуется при помощи интерпретации крестного имени княгини Ольги: Елена. Это имя матери византийского императора III века Константина, который сделал христианство в Византии государственной религией. Под 1015 годом, воздавая хвалу Владимиру, летописец прямо говорит: «То новый Константин великого Рима; как тот крестился сам и людей своих крестил, так и этот поступил так же». Родственная пара Елена – Константин в византийской истории (мать – проповедница христианства, сын – креститель) находит параллель в истории русской, хотя и с добавлением расстояния в одно поколение родства: Ольга – бабка, Владимир – внук. За счет этого приема византийская история начинает выглядеть как своего рода прецедент для русской; а русская, в свою очередь, как новая версия и продолжение византийской.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу