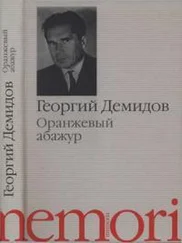Кто запретит — хе-хе… — Пинхосу вспоминать? Разве есть еще хоть один народ, который мог бы вспоминать так хорошо и так мучительно, как еврейский народ? И разве есть еще хоть один такой народ, у кого не осталось бы ни-че-го, кроме воспоминаний?
О, Пинхос помнит! Помнит такую же ночь, холодную декабрьскую ночь прошлого года, накаленную огнем пожаров, рыданиями женщин и детей, вихрем пуль и снарядов. Бывают белые и бывают красные, а тогда как раз были и красные, и белые разом. Красные стояли под самым городом, а белые, уходя, очень торопились, резали впопыхах, шмыгали из дома в дом, спешно добивали тех, кто еще дышал в погребах, на чердаках, в клозетах и подвалах.
Погром застал его в кофейне. Их было тринадцать игроков, среди них лишь один еврей — он, Пинхос. В этот день, как и во все предыдущие дни, он не мог отказаться от этого счастья, от сумасшедшего этого приюта — за шахматной доской.
Сарра — отчего у нее были такие сухие горячие руки, такой неотступный, протяжный взгляд? И зачем у Дорочки, у бледненькой, такие сжатые, тесные губы, точно в зубах зажала кинжал? И почему так жалостно стали они у дверей, так хватали за руки, так умоляли — хоть сегодня, ну, только сегодня остаться с ними, не покидать бесприютный, оглохший этот день?
Он сказал им строго и сухо (как мог он это сказать?):
— Не отнимайте у Пинхоса того, чего вы дать ему не можете.
И ушел.
Прочь от жизни, базара, трясины, трупного месива, бессильного, лижущего камни плача — туда, туда, на маленький клетчатый остров, где немым сладострастием входила в него королева, черная королева, гордо несущая на острие своем:
— Шах и мат.
О, что они могут дать ему, бедные: старая дорогая жена в черной шали, просящая каждодневно денег на базар и ревниво проклинающая шахматы, и бледная дочь, ушедшая в книги?..
Разве могут помочь они Пинхосу разгадать тайну человеческой души, гордость власти, биение мысли в крови, усталую улыбку победы, математику безумия? Им ли спасти его, себя и мир от визга и лязга революций и погромов, от вывернутых наружу подушек и мозгов, белого и серого, мертвыми человеческими облаками повисших над нечеловеческой землей?
Осуществление неосуществимого — только в шахматах, ибо шахматы — да-да — тоска о невозможном.
О, он прошел по лабиринтам всех мыслей, его глаз ночевал в чужих мозгах, его ум нашел отмычку к чужим планам. О, Пинхос умеет разгадать человека по манере игры, даже тогда, когда тот забегает в кофейню на час, чтобы затем навеки исчезнуть, и даже тогда, когда противник нем, как окунь, и только глотает кофе, и даже тогда, когда противник курит и ругается, и даже тогда, когда офицерик, проиграв, картаво кривляется: «А ну-ка, эргеб Пинхос, скажи “кукурргуза…”»
Он знает (узнал давно), что люди на шахматных полях бывают обратными, перевернутыми своими действительными портретами — ну, вот точно так же, как на фотографической пластинке, где белое оборачивается черным, а черное — белым. Сонные курицы, ленивая жабья кровь — на доске — исступленные азартники, — берегись, эреб Пинхос, они атакуют в лоб, они нападают смело и бешено. А этот вот рубака, хулиганская челюсть — с губами кафра и манерами мясника — штаб-ротмистр Рвакин — у Пинхоса лопнуло бы сердце, честное слово, довелись ему встретить такого на улице… А на доске — х-хе, смешно! — на доске он труслив, как суслик, и зарывается в позицию, как немец в окоп. Этот погромщик, повесивший, наверное, сто шестиэтажных домов, набитых Израилем, прокутивший три состояния и растративший интендантское имущество целого корпуса, — он трясется перед опасностью сдвоенной пешки, как от угрозы выпить целую аптеку карболки, он думает по два часа над ходом, облипает холодным потом, как ребячья клеенка — мочой, он ни разу в жизни (то есть не в жизни, конечно, а в шахматах) не рискнул перейти в атаку и неизменно проигрывает, задушенный собственной осторожностью…
А вы не видели, между прочим, робких юношей с нежной печалью Гамлета, принца датского (не глаза, а голубые колокольчики, не будь он еврей)? Так знайте, это форменные шахматные садисты. Они триста раз уже могут дать вам мат, но они не дадут вам мата — так вы себе и запишите! Они будут перебивать пешку за пешкой, фигуру за фигурой, они будут с нежной улыбочкой смотреть, как вы краснеете, синеете и морщитесь, и будут забавляться вашим бессилием, как мальчик — мухой в кулаке…
А вы не видели, как играет процентщик Шварцман? Жалко, что не видели. Но, говорят вам, нужно уметь видеть: честное слово, это самый настоящий Дон Кихот, не человек, а жертвенник. Он пожертвует вам — хе-хе — короля и будет гордо играть на выигрыш!..
Читать дальше
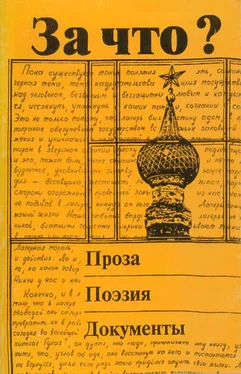




![Георгий Демидов - Чудная планета [Рассказы]](/books/419029/georgij-demidov-chudnaya-planeta-rasskazy-thumb.webp)