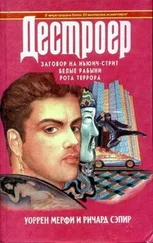И вот он заснул, мертвецки пьян. Поскольку от главного персонажа ничего добиться в этот момент нельзя и пристальное, непрерывное к нему внимание утомило самого наблюдающего, имеет смысл взглянуть, чем в это время занимаются другие персонажи.
Дубровский тоже был в этот момент пьян, и, может быть, Деревьев с ним даже и встретился в пьяном аду. Пьян был и Нечитайло со своим Борьком, причем пили они по поводу того, что Борек стал накануне генеральным директором «Империала», а Нечитайло взял к себе на работу бухгалтером. Наташа, та, которая псевдохудожник-псевдомультипликатор, в это время с кем-то спала, с кем именно — рассмотреть трудно, не человек, а сплошная лоснящаяся спина. Девушки Лиза и Люся тоже спали, и опять как в той дачной истории, втроем. Причем не столько спали, сколько, хохоча, барахтались в огромной кровати с пузатым лицом кавказской национальности. Намного сосредоточеннее и тяжелее любвеобильничала Антонина Петровна. Партнер ее время от времени вскакивал и, шлепая огромными подошвами, бежал к столу, где надолго прикладывался к банке с березовым соком. Когда он возвращался обратно, Антонина Петровна нежно гладила его крепкою рукой и шептала на ухо с немыслимой ласковостью в голосе: «У тебя не диабет, а просто похмелье».
Брат Модеста Матвеевича, профессор, тоже, как ни странно, пользовался обществом женщины. Даже и молодой. Объяснение тут простое. Молодая женщина, во-первых, несмотря на свою относительную молодость, была похожа на… и, кроме того, являлась аспиранткой профессора. Но, тем не менее, ночь была полна любви, за окном с чрезмерной даже старательностью орали соловьи. За стеной всхлипывал во сне Модест Матвеевич. Профессор огненным шепотом рассказывал своей будущей жене, каким образом ему удалось сохранить столько мужской силы до преклонных, казалось бы, лет.
Легко видеть, что в эту ночь весь мир разделился на две почти равные части, на любовников и любителей выпить, только Иона Александрович, как и полагается незаурядному человеку, не лежал ни с какой женщиной в постели, а сидел абсолютно трезвый в майке и трусах на роскошной кухне своей дачи. Волосы у него были в беспорядке и немыты. По красному окаменевшему лицу пролегли широкие мокрые полосы. В руке он сжимал огромный мясницкий нож и медленно постукивал вооруженным кулаком в громадное круглое колено. Из глубины дома доносился отвратительный женский хохот.
На следующее утро обычная программа: писатель вскочил и в душ. Долго плескался, пускал то горячую воду, то холодную, пока не понял, что никакого похмелья у него, собственно говоря, и нет. Тогда он с аппетитом поел ветчины, яиц, майонезу съел целую банку, заварил кофе и сел думать, придумывать, что бы еще такое бросить в метафизическую дыру, с которой спроворило его сблизиться. Не долго думая — придумал. Проверил наличие чистой бумага, выкурил две сигареты, почистил зубы и засел.
Сосредоточиться на работе на этот раз было труднее, чем обычно. Стоило лишь слегка ослабить вожжи — внимание дезертировало на другой фронт, и Деревьев заставал себя перелистывающим вторую часть своей старинной повести в поисках той сцены, на основе которой, вероятнее всего, будет изготовлено очередное «доказательство». Если исходить из логики того, что уже сделано фальсификатором, то ожидать следовало счастливого конца с великолепной свадьбой и роскошным свадебным путешествием. Новый, идеально сфальсифицированный Михаил Деревьев напоминал непрерывно курящему и корпящему над бездарною халтурой оригиналу некий Кувейт, сумевший рационально использовать свалившееся на него богатство. Никакого отвращения, пренебрежения или другого недоброго чувства Деревьев образца 1993 года к нему не испытывал. Его поведение в недрах свалившегося на голову благосостояния не казалось 1993-му предательством по отношению к тому варианту судьбы, где остались чужие квартиры, драные носки, плохой портвейн, вечный гастрит и неуверенность в завтрашнем дне своих отношений с Дарьей Игнатовной. Появилось, наоборот, что-то вроде отцовского чувства: я не смог, так пусть хотя бы у него все будет нормально.
Правда, явилась ему однажды мысль, породившая определенную панику. Такая мысль: только ли в пределах известной рукописи происходят все эти счастливые изменения? Может быть, рукописное цветение нового сюжета вызывает отмирание сюжета прежнего, причем отмирание реальное. Что счастливое бракосочетание, гармоничная супружеская жизнь обновленного Деревьева с удовлетворенной Дарьей Игнатовной, как нейтронная бомба, взрывается над тем миром студенческой нищеты, безысходности, веселого разврата и бесцельных мечтаний, выжигая все неповторимые переживания, одноразовые презрения, единственные мысли. Причем, как всякая нейтронная бомба, она щадит все вещественное — стены общежитий, коммуналок, аудиторий и норы метрополитена.
Читать дальше


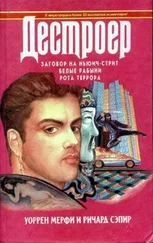
![Михаил Щукин - Рабыня [litres]](/books/35351/mihail-chukin-rabynya-litres-thumb.webp)