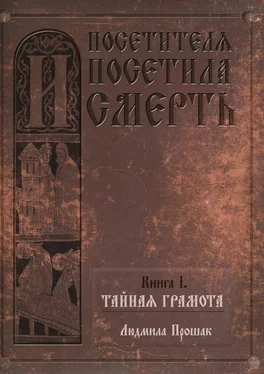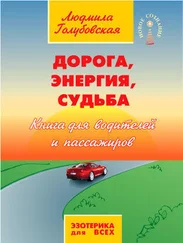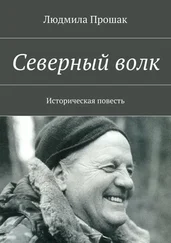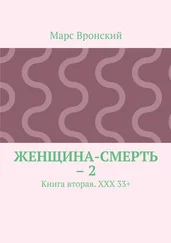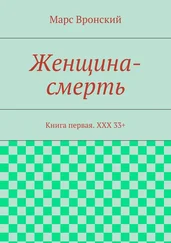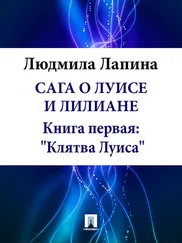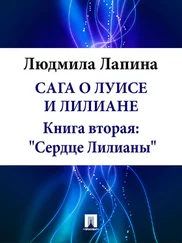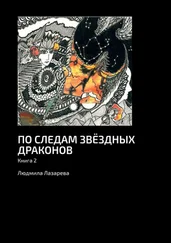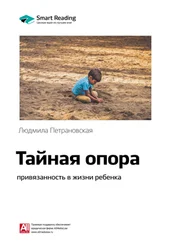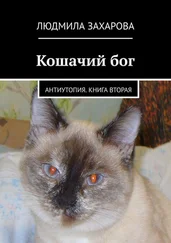Глава II.
Григорьевский затвор
1
Ростовское княжество,
Ростов Великий, Григорьевский затвор,
в год 69181 месяца просинеца в 18-й день 15 15 18 января 1410 года от Рождества Христова.
,
повечерие
После долгой разлуки. Правда неизреченная. Мученическая смерть книг. В поисках укрытия
В затворе приютили беглецов без лишних вопросов. Кирилла игумен поселил в пустовавшую труднишную, а Епифанию освободил ту самую келью, в которой тот жил ещё в отрочестве. Казалось, стоит смежить усталые веки – раздастся ломкий юношеский басок Стефана и его притворно строгий окрик: «Когда же ты перестанешь досаждать мне, Епифаний!».
Епифаний отложил перо: нить рассуждений, которую он терпеливо распутывал, снова потерялась в клубке противоречий и недомолвок. В поисках поддержки он обвёл взглядом родные стены, отыскивая на потемневших бревнах знакомые сучки. В отрочестве ему нравилось угадывать в лучистых изгибах незаконченные портреты, в которых изограф успел лишь нарисовать самое главное – глаза. Эта игра особенно удавалась на закате, когда багровый отблеск подчеркивал выражение: тогда грустные становились печальными, добрые – кроткими, лукавые – злокозненными..
Ломило спину.. Епифаний встал – по телу разлилась блаженная усталость: он только сейчас вспомнил, что сел за работу на рассвете. Предметом его бдений была та самая книга, которую спас на пожаре Кирилл. Захватив её с собой, Епифаний спустился с крыльца.
Вернувшись в затвор после долгой разлуки, он сверял свои воспоминания с тем, что открывалось взгляду. В восточном крыле, где его поселил игумен, как и прежде, размещались десять братских келий, а в западном располагалась иконописная мастерская. Епифаний запрокинул голову вверх – колоколенка уже не казалась столь высокой как тогда, когда он смотрел на нее двенадцатилетним отроком. А вот саженцы стали садом. Уезжая из затвора в Троицу, Епифаний оставил их робкими прутиками, теперь же они заслонили собой заснеженный погост. Мальцом Епифаний избегал ходить мимо могильных плит. Если его посылали к амбарам у тына, он петлял между фруктовых деревцев и возвышавшимися над ними караульной, гостиной, труднишной. Теперь яблони в заснеженных шапках казались великанами, а кельи – игрушечными избушками, примостившимися под их сенью. Епифаний свернул направо, к восточному приделу церкви. Дорогу сюда он нашёл бы и с завязанными глазами…
В книгохранилище витал лёгкий аромат киновари и чернил. Казалось, даже сам воздух был того же свойства, что и громоздившиеся здесь на столах и стеллажах свитки, пергамены, огромные, тяжёлые изборники. Всё здесь было словно настояно на веках: береста напоминала о прошлом, бумага возвращала в настоящее, а пергамен служил связующим звеном между ними. Рукописная мудрость была растворена в свете свечей, в потемневших рубленых стенах, в отполированных локтями писцов и чтецов столах… Положив свою книгу на край лавки, Епифаний взял изборник, лежавший в стопке сверху, раскрыл. В глаза плеснуло киноварью заглавных букв: «Поучение душеполезна… князем и бояром, всем правоверным християном, христоименитым людям митрополита всея Руси…« XXXI
Имя митрополита было прилежно выскоблено. Епифаний грустно усмехнулся: исходно должно было стоять имя Митяя, нареченного Михаилом. Но указание его авторства, по мнению переписчика, лишило бы сочинение необходимой авторитетности. Прав был Киприан, когда отмечал в «Повести о Митяе» враждебность княжеского любимца к монахам и игуменам. И все же было в нём то, что могло примирить его со многими в Москве, – дерзновенная мысль о полной автокефалии XXXIIрусской церкви. Киприан же всеми средствами старался сохранить митрополию единой, даже тогда, когда не стало его главного вдохновителя и защитника – Константинопольского патриарха Филофея…
Епифаний погрузился в размышления настолько, что не сразу заметил хранителя Алферия, который хоть и был горбат и стар, но зоркости и проворства не утратил. Бесшумно вынырнув откуда-то из-за ларей с рукописями и едва глянув на открытую книгу, тут же угадал невысказанные мысли Епифания:
– Сомнения при исправлении и переписывании мучительны и тяжки.
– Но, отец Алферий, разве потомки наши не смогут, усомнившись, отыскать преданное забвению или обойденное глубоким молчанием? Разве не писал Василий Великий в своем поучении: «Будь ревнителем праведно живущих и имена их, и жития, и дела записывай на своем сердце»?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу