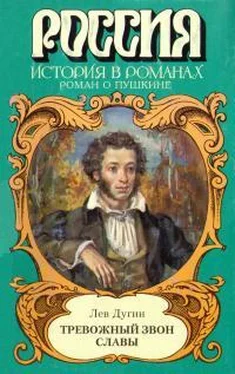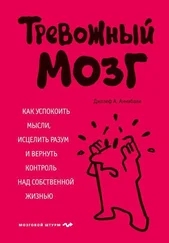Вяземский не раз призывал откликнуться мощными творениями на смерть двух властителей дум — Наполеона и Байрона [39] Вяземский Пётр Андреевич (1792—1878) — князь, поэт, журналист и литературный критик, один из близких друзей Пушкина. Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) — лорд, известный английский поэт.
. Наполеон конечно же волновал воображение, и не только своей судьбой: не он ли, играя народами, пробудил неведомые прежде в России чувства и стремления? Пушкин уже посвятил ему не одно стихотворение. Теперь море позволяло направить поэтический корабль к мрачному утёсу, на котором мучительно угас бывший повелитель мира...
Образ Байрона уже не волновал его. Он не признался бы, да его и не поняли бы, но он вполне осознал, что Байрон — лишь мода, впечатляющая, но временная. Ничего этого в жизни нет — ни богоборчества, ни царства абсолютной свободы, ни демонических героев. В России, во всяком случае, нет — и это не в русском характере. Не потому ли он закончил «Кавказского пленника» возвращением русского туда, откуда он бежал? Но буйному Байрону можно было отдать дань, сравнив его с разбушевавшимся морем.
И он принялся за работу. Как всегда, она продвигалась трудно: приходили образы, которые ещё предстояло воплотить в слова, или отдельные слова — нужные, но ещё никак не сцепленные с целой строкой.
Он обратился к морю уже издалека, совсем из другого края:
То тих как сельская река,
И бедный парус рыбака,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит поверх твоих зыбей.
Но ты взыграл, неодолимый,
И тонет стая кораблей.
Он записывал обрывки строф, черкал, менял. О Наполеоне:
Один предмет в твоей пустыне
Меня бы грозно поразил,
Одна скала.
Или так:
Что б дал ты мне — к чему бы ныне
Я бег беспечный устремил,
Один предмет в твоей пустыне
Меня б внезапно поразил,
Одна скала, одна гробница.
Теперь о Байроне:
И опочил среди мучений
Наполеон, как бури шум,
Исчез другой . . . . . . гений,
Другой властитель наших дум.
Но он хотел передать образ Байрона через образ моря:
. . . . . . . . . . . . . . . . твой певец
Он встретил гордо свой конец.
Он был как ты неукротим,
. . . . . . . . . . . . . . . как ты глубок,
Твой образ был на нём означен,
Как ты глубок, могущ и мрачен...
Приоткрылась дверь, и прошелестел голос сестры:
— Можно к тебе?
Он бросил перо и приветливо закивал головой. С сестрой было связано детство, игры, домашний театр — далёкое и, кажется, единственное светлое счастье.
— Я тебе помешала? — Она приблизилась к столу. — Кто это?
Она рассматривала портрет Жуковского, который он прикрепил к стене, — тот самый портрет, на котором Жуковский написал: «Победителю-ученику от побеждённого учителя».
— Ты не узнала?
— Ах, как же... Василий Андреевич... Но он уже совсем не тот: располнел, облысел.
— Время не щадит никого, не так ли?
Именно этого она и ждала, чтобы начать доверительный разговор.
— Le despotisme de mes parents... [40] Деспотизм моих родителей... (фр.).
— начала она.
Конечно, он понимал её, ласково ей улыбался и сочувственно кивал головой.
— Ах, я хотела бы встретить человека, который не ползает по земле, а парит! — воскликнула Ольга. — И одного такого я знаю — это твой друг Вильгельм Кюхельбекер, он частенько навещал нас. Он умён, любезен, образован, Лёвушка от него без ума. И, кажется, он не на шутку увлечён мною. Но, увы, это горячая голова, каких мало: из-за пылкого воображения он делает глупость за глупостью. Вообрази...
Долговязый, нелепый, кособокий, клонящий голову на слабой шее — образ возник в воображении Пушкина, и так чётко, будто живой человек стоял перед ним. Сердце его учащённо забилось.
— Значит, он часто бывал?.. Сейчас, я знаю, он в Москве.
Ольга вдруг оборвала себя:
— Я всё о себе да о себе. Я — эгоистка... Дай мне руку, скажу, что тебя ожидает. — И, как когда-то, она принялась разгадывать линии судьбы. — Ты укоротил ногти?
— Зато я отращиваю баки.
— Это состарит тебя.
— И хорошо, я не мальчик.
Она вздохнула.
— Послушай, я решила: все уедут в Петербург, а я останусь здесь с тобой.
— Ты очень добра. — Пушкин был искренне тронут. — Однако я не позволю тебе проскучать из-за меня зиму.
— Значит, ты меня не любишь?
— Нет, я тебя очень люблю. — Пушкин поцеловал сестру.
— Ну хорошо, не буду мешать тебе.
...Он принялся разбирать листы, листочки, даже какие-то клочки и бумажные обрывки с торопливыми чернильными и карандашными записями. Из отрывочных этих заметок должны были составиться «Автобиографические записки» — значительнейшее его произведение, запечатлевающее судьбу целого поколения, — жанр исторической публицистики, развитый знаменитой де Сталь [41] Сталь Анна-Луиза-Жермен де (1766—1817) — французская писательница.
в её «Dix ans d’exil» [42] «Десять лет изгнания» (фр.).
и подхваченный многими.
Читать дальше