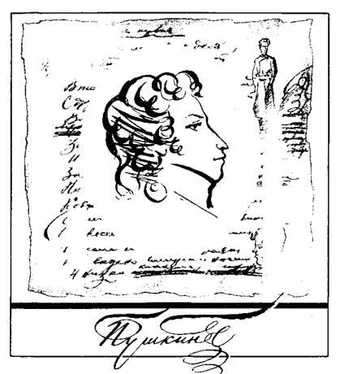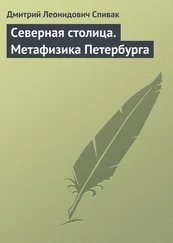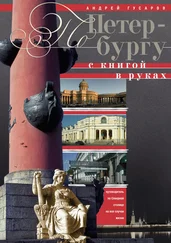– Граф, – сказал Пушкин, стараясь придать своему голосу твердость, а своему лицу – выражение спокойствия. – Граф… бумаги свои я сжег, у меня дома ничего не найдете…
Темные, южные глаза Милорадовича задорно заблестели. Он как будто еще чего-то ждал…
– Но, граф, – Пушкина осенило. – Если вы желаете, велите подать перо и бумагу, я сам напишу крамольные свои стихи, но, конечно, лишь те, которые действительно принадлежат мне!
– Вот и великолепно, это по-рыцарски! – воскликнул рыцарь без страха и упрека. – Тукманов! – крикнул он адъютанту. – Подать перо и бумагу… Parfaite ment… [47].
Не походило ли это на заранее подготовленный спектакль?
Пушкину указали стол.
– Тукманов! Одеваться… Я собираюсь в Государственный совет, – объяснил Милорадович. – Кстати, нет ли у тебя стихов против Государственного совета? – Он расхохотался. – Жаль, что нет… Тукманов! Даме сказать про подарки, что шаль стоит шестьсот червонцев… Не желаешь ли шоколаду? – предложил он Пушкину. – Да, твою тетрадку я передам его величеству – жди теперь высочайшего решения…
И уехал в Государственный совет, оставив Пушкина пишущим стихи, за которые царь мог покарать его крепостью или ссылкой…
Но что же царь? Теперь каждый день рождались, новые слухи. Царь разгневан и безбожника Пушкина заточит в Соловецкий монастырь!.. Но неужто друзья Пушкина не спасут его? Ну да, пылкий молодой человек совершил глупость, неосмотрительную ошибку – но нельзя дать ему пропасть! На что он рассчитывал? Неужто рассчитывал на великодушие характера государя?
– Зачем ты раздразнил императора, – Гнедич не мог сдержать слез отчаяния: Пушкин погиб!
И в ответ увидел вызывающую улыбку, открывающую белые, влажные зубы и широко раскрытые, дерзкие глаза.
– Быть может, некогда восплачешь обо мне! – насмешливо ответил Пушкин фразой, которую теперь часто повторял, взятой из «Танкреда» Вольтера.
Ах, пусть молодой человек тешится независимостью, бесстрашием… Нужно его спасать! И Гнедич помчался к Оленину – молить о заступничестве.
Новый разнесся слух: Пушкина пошлют в Сибирь…
– Я давно истощил все способы образумить твою беспутную голову, – горестно говорил ему Карамзин. – Предаю тебя, несчастный ты человек, року и Немезиде… Но из жалости к твоему таланту все же замолвил за тебя слово…
А он в ответ разразился бешеной филиппикой против писателей, готовых малодушничать, готовых пресмыкаться перед властью, готовых восхвалять Тартюфа в юбке, – и это было дерзостью именно по отношению к Карамзину, автору «Исторического похвального слова Екатерине II». А на лице Пушкина была написана твердая решимость: я сохраню независимость в своих мыслях и поступках!
Царь, во время прогулки встретив Егора Антоновича Энгельгардта, с раздражением заговорил о бывшем царскосельском воспитаннике: он наводнил Россию возмутительными стихотворениями! Его надобно строго наказать!..
Но уже и у императрицы Елисаветы Алексеевны и у вдовствующей императрицы Марии Федоровны побывали друзья и заступники… И наперебой Карамзин, Жуковский, Оленин, Энгельгардт пытались объяснить царю трудный характер молодого поэта…
И стало известно: Пушкина не ссылают, а переводят на службу на юг. Он поедет курьером в Екатери-нославль к главному попечителю колонистов южного края генералу Инзову. И в Петербург вернется, если докажет, что исправился.
Сопроводительное письмо, подписанное Александром, составил почетный арзамасец, друг Карамзина, статс-секретарь Каподистрия:
«Господин Пушкин, воспитанник царскосельского Лицея, причисленный к департаменту иностранных дел, будет иметь честь передать сие письмо вашему превосходительству.
Письмо это, генерал, имеет целью просить вас принять этого молодого человека под ваше покровительство и просить вашего благосклонного попечения.
Позвольте мне сообщить о нем некоторые подробности.
Исполненный горестей в продолжение всего своего детства, молодой Пушкин оставил родительский дом, не испытывая сожалений. Лишенный сыновней привязанности, он мог иметь лишь одно чувство – страстное желание независимости. Этот ученик уже рано проявил гениальность необыкновенную. Успехи его в Лицее были быстры. Его ум вызывал удивление, но характер его, кажется, ускользнул от взора наставников.
Он вступил в свет сильный пламенным воображением, но слабый полным отсутствием тех внутренних чувств, которые служат заменою принципов, пока опыт не успеет дать нам истинного воспитания.
Читать дальше