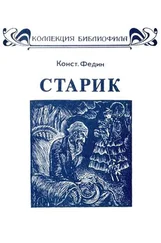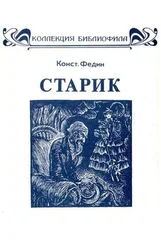Безропотно покачиваются на улице в палисаднике тонкие ветви ивы, вздохи ветра касаются их деликатно, листва серебристо-молочна, нежна, как свет опала. Дерево посажено самим Меркурием Авдеевичем, поливал он его вместе с Валерией Ивановной, и – гляди-ка! – вон как разрослось, и сколько, значит, ушло времени – не счесть и не понять! Да сказать правду – ушло все время, все время Меркурия Авдеевича, осталась одна оболочка. На что ни взглянешь – все напоминает Валерию Ивановну. Кажется, она занимала не великое место во многосуетном повседневье Мешкова, а умерла – словно взяла с собой все. Не умерла, нет. Меркурий Авдеевич называл её смерть – успением, мирной кончиной, говорил, что душа её отлетела, вознеслась вот с таким деликатным вздохом утреннего ветерка. Смертью своей она даже мужа не обеспокоила, а так же, как жила, никогда не утруждая, так и отошла – уснула с вечера и не проснулась. Поутру Меркурий Авдеевич подошёл к её постели, нагнулся, да так и пал лицом на холодное и уже твёрдое лицо жены. Было это год назад, и с тех пор, проверяя в воспоминаниях прожитое с Валерией Ивановной, он не отыскивал – в чём бы повиниться перед нею за всю супружескую жизнь, кроме, пожалуй, самых последних месяцев. В эти последние месяцы существования Валерии Ивановны он угнетал её своим сумасбродным, до навязчивости выросшим желанием упразднить в доме всякий след красоты, всякий уют, даже всякое удобство. Что это было! Вот висит на гвозде картинка. Меркурий Авдеевич косится, косится на неё, ходит, ходит из угла в угол, подпрыгивая по-своему на носочках, потом вдруг остановится, стащит со стены картинку, выставит её из рамы и наколет на гвоздь как-нибудь покривее, да ещё тыльной стороной наружу, а раму – пойдёт на чердак закинет. «За что ты её, сколько лет мы ею любовались, чем она провинилась?» – взмолится Валерия Ивановна. «Успокойся, мать, – ответит Меркурий Авдеевич, – нам с тобой хуже – им лучше!» – «Да ведь они же не видят!» – воскликнет она. «А вот придут – пускай увидят!» – скажет он. Либо отвинтит от кроватей никелированные шишечки и засунет их куда-нибудь в ящик с гвоздями. А то повернёт буфет лицом к стене, так что к нему и подойти неладно, да ещё прикажет, чтобы паутину не обтирали, а так бы и оставили – в пыли и в засохших мухах. И опять один ответ: они хотят безобразия – пускай любуются безобразием! Цветы он засушил, горшки из-под цветов выкинул, вместо скатерти велел накрывать стол клеёнкой и все ждал, что кто-то непременно к нему явится и непременно изумится, как он худо живёт, удостоверится, что у него в доме столь же мерзко, сколь мерзко должно быть у того, кто явится, и, значит, как раз так, как требуется временем. Но к нему никто не являлся. Этой смутной манией он доводил Валерию Ивановну до горючих слез. Однако теперь, но здравом рассуждении, он всё-таки склонялся к тому, что был прав и, стало быть, неповинен перед памятью покойницы. Ибо только Валерия Ивановна скончалась, как к нему действительно явились осматривать дом, и двор, и флигели, и затем вскоре муниципализировали все владение, предоставив ему с Лизой и внуком две комнаты. Он жил теперь в бывшем своём доме на положении не квартиранта даже, а комнатного жильца, как жили вселенные в другие комнаты старик из цеховых да трое студентов-медиков. Он жил в чужом доме, в доме, который принадлежал им, и к ним он причислял и старика, и студентов, правда, тоже не владевших домом, но расположившихся не хуже иного владельца – легко, привольно, беззаботно. Посмотрела бы покойница Валерия Ивановна: прав был Меркурий Авдеевич или нет? Даже кровать, на которой она скончалась, нынче стала достоянием новоявленного хозяина, – на ней почивал жилец-старик. Добро хоть шишечки Меркурий Авдеевич вовремя отвинтил да выкинул! Не то цеховому жилось бы совсем по-вельможьи…
В утренний этот серебристо-опаловый час спал весь дом, весь бывший дом Мешкова – жиличка Лиза с жильцом-сыном, жилец-старик, жильцы-студенты. Бодрствовал один жилец Меркурий Авдеевич. И, перебрав в уме все совершившееся, призвав разум и сердце к смирению, Меркурий Авдеевич достал с этажерки книгу, тетрадку, присел к столу, обмакнул перо в пузырёк, выговорил с неслышным воздыханием:
– Бодрствуйте, се гряду скоро!
Библиотека его разорилась: афонские душеспасительные книжечки, вплоть до затворника Феофана, он распродал и роздал, а возлюбленную драгоценность – жития святых, Четьи-Минеи тож – преподнёс недавнему своему знакомому, викарному епископу, доживавшему дни в скиту за Монастырской слободкой. Но всё-таки немногие книги он сохранил, рассовав их по углам, испачкав нарочно, измяв и оторвав обложки, дабы придать им вид крайней никчёмности.
Читать дальше