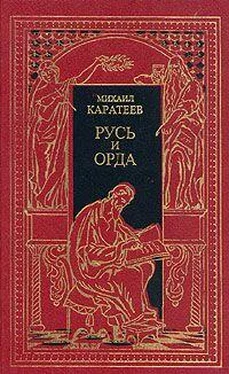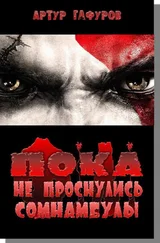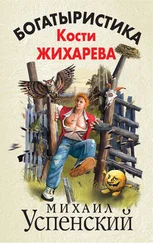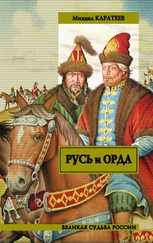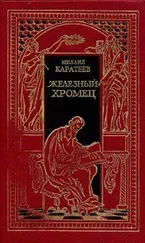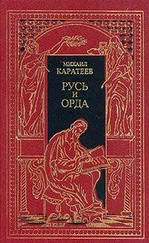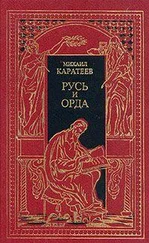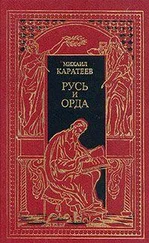Вечером в полки были назначены воеводы, а утром следующего дня, когда вся рать была собрана на обширном Девичьем поле, близ города, – из кремлевских ворот выехал и направился к ней великий князь Дмитрий Иванович. Обычно скромный в одежде, сегодня он счел нужным показаться войску во всем блеске своего боевого облачения. Его шлем, оплечья и зерцало кольчуги сверкали золотом, на плечи была накинута отороченная горностаем алая епанча.
Роскошно был убран и его могучий белый конь: под драгоценное седло, с лукою, искрящейся огнями самоцветов, был положен богато расшитый жемчугом малиновый чепрак; узда, оголовье и нагрудник были изукрашены золотыми бляхами и кистями, а лоб коня – закрыт трехугольным золо-
тым щитом, со звездою, выложенной на нем из крупных ла-лов. И только боевой меч с крестообразной рукояткой, в простых черных ножнах висевший на боку у Дмитрия, не соответствовал всему этому великолепию и каждому красноречиво напоминал о том, что привело их сюда.
Справа и шага на два сзади окольничий Иван Кутузов вез развернутый черный стяг великого князя, с вышитым на нем изображением Нерукотворного Спаса. Слева, и тоже чуть поотстав, ехал воевода Михаила Бренко, ведавший учет войску, а сзади – еще человек десять приближенных, все, как и государь, в боевых доспехах. Князья и воеводы стояли на поле, впереди своих полков, но по мере того как Дмитрий объезжал их, они тоже присоединялись к его свите.
Войска были построены покоем, по трем сторонам поля, и первым с краю стоял Белозерский полк. Конных тут было мало, но зато пеших многие тысячи, и народ все здоровый, рослый, – «под стать своим князьям, – с удовлетворением отметил про себя Дмитрий. – Высок и дороден Федор Романович, а князь Иван на полголовы перерос отца, – истинный богатырь! Воины глядят смело и одеты неплохо. Доспехов, правда, почти не видать, но щиты хороши, мечей и копий много, у кого же нет, – у тех луки, топоры либо палицы. Эти будут биться! Эх, кабы все были такие, как белозерцы, татары бы и дорогу на Русь забыли!»
Вторым стоял полк Тарусских и Оболенских князей. Он был вполовину меньше Белозерского, но зато весь сидел на конях, и тут многие воины были в кольчугах и в шлемах. Перед серединой полка, окруженный десятком князей и воевод, бородатый великаи-витязь, сидя на вороном коне, держал голубой черниговский стяг, с изображением архангела Михаила. «Эти князья хотя и не столь богаты, а в грязь лицом не ударили, – медленно проезжая мимо, подумал Дмитрий. – Видать, ничего для войска не пожалели, да и сами вышли, почитай, все: и старики Ивановичи тут, и племянники их, и внуки. Господь знает только, все ли домой воротятся?»
Миновав еще Муромский полк, по численности не уступавший Тарусскому, но снаряженный похуже, Дмитрий Иванович придержал коня у следующего. Это были моложцы.
Л а л – рубин.
Покоем в славянском алфавите называлась буква П.
Это был общий княжеский род, идущий от кн. Юрия Тарусского, – младшего сына вел. князя Михаила Черниговского. Оболенское княжество было уделом Тарусского.
Их было немного, – тысячи с три, – но все конны и хорошо вооружены. Впереди полка, на поджаром золотисто-рыжем жеребце, сидел ладный русобородый всадник, в сверкающих начищенной сталью доспехах и в посеребренном шлеме-ерихонке. Это был князь Федор Михайлович Моложский, сверстник Дмитрия, товарищ детских игр и неизменный участник всех его войн и походов.
– Вот и еще привел Господь встретиться, Федя, – ласково сказал Дмитрий, подъезжая к нему. – Ну, здравствуй на долгие годы! Обнял бы тебя, да на коне и в доспехах несподручно. Снова, значит, вместе в сечу пойдем?
– Куда ты, туда и я, княже! Доколе жив, послужу тебе и святой Руси.
– Славных ты молодцов привел. Я уж знаю: добро бьются твои моложцы!
– Не обессудь, что мало, Дмитрей Иванович: повыбили моих людишек-то в последних войнах.
– Кто тебя осудит! Чай, на моей службе костьми легли. Ну, езжай за мною; поглядим других.
Вот стоят Ярославский, Ростовский, Углицкий, Ста-родубский полки… Вьются над ними алые, синие и желтые стяги, серебром и золотом светятся доспехи стоящих впереди князей и воевод. А воины, хотя и много их, снаряжены не богато. Конные еще туда-сюда, а больше пеших, и тут доспе-ха ни на ком не увидишь. Кто в тягиляе, а кто и просто в кожухе и в войлочной шапке, с понашитыми сверху железными бляхами и пластинами. На ногах лапти… Щиты деревянные, у кого обитые кожей, а у кого и так. Да и плетенных из лозы немало. Но люди глядят весело и биться будут, – знают, что идут за святое дело и что с ними Бог. А доспехи и щиты что же? Где их напастись на эдакое войско!
Читать дальше