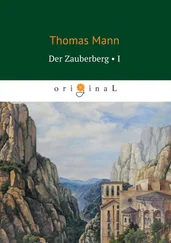Он, собственно, и в самый разгар войны выступил уже однажды публично на тему «Германия», прочитав осенью 1943 года, сначала в Вашингтоне, в Библиотеке конгресса, а затем в Нью-Йорке, в Колумбийском университете, доклад, озаглавленный «Новый гуманизм». Стержнем этого доклада была мысль о недопустимости отождествления понятий «немецкий» и «нацистский», о «совиновности капиталистических демократий» «в возникновении фашистской диктатуры, в росте ее мощи и во всем бедствии, обрушившемся на Европу и мир», «о глупом, паническом страхе буржуазного мира перед коммунизмом». «Не Германию, — говорил он, — и не немецкий народ надо уничтожить и стерилизовать, а уничтожить надо отягощенную виной комбинацию власти юнкерства, военщины и тяжелой промышленности, ответственную за две мировые войны. Вся надежда — на настоящую, очистительную немецкую революцию, которой победители не только не должны мешать, но должны помогать и способствовать». Ссылаясь на этот свой доклад, он тогда же отверг высказанный ему другим немецким писателем-эмигрантом, Бертольдом Брехтом, упрек в том, будто он, Томас Манн, использует свое влияние в Америке для того, чтобы умножить сомнения в «существовании могучих демократических сил в Германии». Однако участвовать в создании «Free Germany Comittee» 78 78 Комитет «Свободная Германия» (англ.).
в Америке он тогда, в 1943 году, отказался. Были ли у него самого такие сомнения? Вероятно, были. Но дело не только в них. Что было у него несомненно и что определило его отказ — это чувство огромной вины Германии перед всем миром. «Защищая и оправдывая Германию и требуя «сильной немецкой демократии», — писал он Брехту, — мы в данный момент вступили бы в опасное противоречие с чувствами народов, изнемогающих под нацистским игом и близких к гибели. Слишком рано выставлять немецкие требования и апеллировать к чувствам мира во имя державы, которая еще держит сегодня под своей властью Европу... Еще могут произойти и, наверно, произойдут страшные вещи, которые снова вызовут возмущение мира этим народом, и каковы мы будем тогда, если преждевременно поручимся за победу всего лучшего и высшего, что в нем есть».
В докладе «Новый гуманизм» он коснулся, как видим, темы «Германия» лишь в самой общей форме, лишь указывая на ответственность всего буржуазного мира за возникновение фашизма на его, Томаса Манна, родине. Что же касается конкретного вопроса о том, как быть с Германией после победы, то упорное молчание нашего героя на этот счет объясняется не только названным в письме к Брехту нежеланием вступить в противоречие с миром, чувства которого по отношению к Германии он вполне понимал, но и противоречием с самим собой, в котором он, понимая эти чувства и будучи в то же время немецким писателем, теперь находился. «Я не скажу ни слова, — писал он в 1944 году историку Эриху фон Калеру, тоже эмигрировавшему сперва в Швейцарию, затем в США. — Выскажешься за мягкость — будешь, чего доброго, омерзительно дезавуирован немцами. Выскажешься за неумолимость — окажешься в ложной и вредной позиции по отношению к стране, на языке которой ты пишешь». И когда в том же 1944 году видный американский журналист Клифтон Фейдимэн, считая образование «Council for a Democratic Germany» 79 79 «Совет борьбы за демократическую Германию» (англ.).
неподобающим проявлением немецкого эмигрантского патриотизма, призвал Томаса Манна выступить с протестом против создания этой организации, Фейдимэн, как и в свое время Брехт, получил отказ — но по противоположным мотивам. «Как ни проникнут я чувством, — говорилось в ответе Фейдимэну, — что еще слишком рано сочувствовать Германии, сколь ни безответственным кажется это мне, когда немецкие эмигранты берут на себя сегодня ручательство за будущее демократическое благонравие Германии — страны, которая стала нам всем страшно чужой... так же, на мой взгляд, некрасиво и саморазрушительно другое — если немец моего типа, намеревающийся и в качестве американского гражданина остаться верным немецкому языку и закончить на нем труд своей жизни, станет ныне в позу обвинителя своей сбившейся с пути и отягощенной виной страны перед мировым трибуналом и своим, может быть, не таким уж и невлиятельным свидетельством накличет самые крайние, самые уничтожающие приговоры на страну своего происхождения... Можете ли Вы упрекнуть немецкого писателя, если ему не хочется предстать в будущем перед своим народом именно в роли палача Немезиды?» Кстати, забегая вперед, о мировом трибунале в прямом смысле слова и как раз в связи с неуверенностью нашего героя в «демократическом благонравии» своих соотечественников. Минимум дважды упомянул он в послевоенных письмах как жутковато-забавный пример «идиотского» и «донкихотского» националистического ослепления телеграмму, которую послал его старый мюнхенский знакомый, композитор Пфитцнер, автор оперы «Палестрина», одному из главных военных преступников, генерал-губернатору Польши Франку, когда того приговорили к повешению на Нюрнбергском процессе: «Всеми помыслами с Вами, дорогой друг!» А Ганса Пфитцнера, хотя при Гитлере он был «культурсенатором», объявили в Западной Германии непричастным к нацизму...
Читать дальше



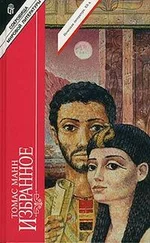





![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/176315/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz-thumb.webp)