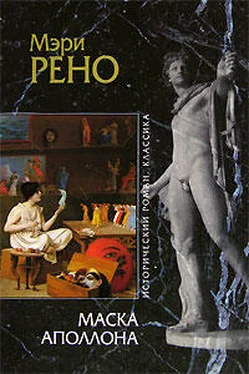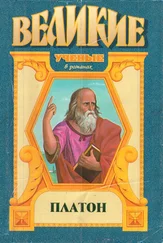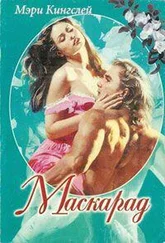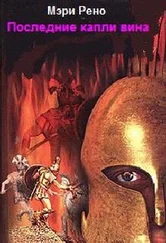Он стоит над битвой; он ничего не должен делать, нужно лишь присутствие его. Мир еще совсем зеленый, сырой; и только он один знает, что это за него сражаются сейчас греки, но какой-то свет от него отражается на лице юного Тезея. Греки должны победить, потому что больше на него похожи; его пророческие глаза смотрят далеко вперед. У него нет фаворитов, он бесстрастен. Он суров и лучезарен, милосерден и беспощаден. Струны его настроены на идеальный аккорд, и этот аккорд — гармония — единственный друг его. Станет ли он жалеть кифариста, если тот сфальшивит?
На обратном пути я составлял монолог для него; детская чепуха в топорных стихах, на такие способен любой актер. Завершить эту речь не удалось: Демохар успел набраться до одури, и надо было срочно доставить его домой, пока он еще на ногах стоял. Он встретил меня как своего любимого Хиласа, от чего прочие пьяницы пришли в дикий восторг. Но мне это было не в новинку. «Хилас? — сказал я. — Ты же помнишь, что с ним случилось. Геракл отпустил его одного погулять, а местные нимфы взяли и утопили его. И Геракл опоздал на корабль. Так что давай поднимайся; нам опаздывать нельзя, надо быть на борту, пока капитан швартовы не отдал.»
Но когда я распаковал наши корзины в Фигалее и повесил маску Аполлона на гвоздь, — прицепил над ней лавровую веточку, специально сорвал, и пролил несколько капель вина на пол перед нею. А выходя с мерцающей лампой своей из старой деревянной кладовки, прямо чувствовал, что у нее в глазницах глаза появились, и провожают меня взглядом.
В утро представления народ начал заполнять театр с рассвета, еще солнце не поднялось. Там наверно были все, кто хоть как-то двигаться мог; я своими глазами видел, как одного дедулю снимали с ослика и заносили на руках.
Я проследил, чтобы завтрак у Демохара был разбавлен, обрядил его в доспехи Ареса, разложил что кому надо, настроил лиру, мне предстояло свадебную песню петь… Потом оделся Фиванским Воином.
Как мне помнится, всё шло отлично, мы уже две трети отыграли. Ламприй и Демохар были на сцене в ролях Кадма и Телепассы; Мидий только что был Гармонией и переодевался в Аполлона: он должен был вскоре появиться на Божьей Платформе над скеной и пророчить оттуда. А я всё стоял на сцене воином; делать ничего не надо, только копье держать.
Стоя на середине сцены возле царских ворот, я смотрел на склон холма, в который был врезан театр. И вдруг увидел толпу каких-то мужиков, спускавшихся оттуда в нашу сторону. Я подумал, было, что это из соседнего города люди на спектакль пришли, только что опоздали. Даже когда разглядел, что все они с копьями и щитами, — даже тогда еще не удивился: решил, что будут какой-нибудь танец с оружием на празднике плясать. Оглядываясь назад, мне трудно поверить, что был я настолько наивен; но когда работаешь в Афинах, привыкаешь к мысли, что ради театра весь мир замирает…
Ламприй продолжал свой монолог; те люди подходили всё ближе; пока один хорист не завопил с орхестры и не показал наверх. Публика сначала уставилась на него; потом туда, куда он показывал… И начался хаос.
Отряд на холме затянул пеан и понесся вниз по склону. Фигалейцы, все безоружные, начали ломать деревянные скамьи или кинулись бежать. Женщины, сидевшие в лучших свои нарядах на другой стороне, закричали, засуетились, бросились наружу. Один находчивый молодой человек из хора выскочил на цену и выхватил у меня копьё. Надеюсь оно ему хоть как-то пригодилось; оно бутафорское было, с деревянным наконечником. Я предлагал ему щит, который был бы ему гораздо полезнее, но он уже умчался, сдвинув на затылок свою бородатую маску.
Не знаю, что я мог бы учинить тогда. Но тут услышал, что рядом по-прежнему гудит Ламприй, декламируя свои строки.
Люди уверяли потом, что нас бог обуял; ну, кроме тех, кто говорил, что все актеры сумасшедшие. Но на самом деле, в таких обстоятельствах просто продолжать — гораздо разумнее, чем может показаться. По крайне мере, все знают, кто ты такой и что здесь делаешь; оставаясь на сцене, мы гораздо меньше рисковали попасть под копье или быть затоптаны, чем если бы попытались бежать оттуда. Философы говорят, человеческой природе необходимо разумное объяснение, вот я и привожу одно. Но сомневаюсь, чтобы я думал об этом в тот момент. Для меня театр еще был символом Дионисий в Афинах. Я привык к ритуалу; привык к тому, что театр — это место священное и всеми почитаемое; что жрецы, государственные мужи и генералы сидят на почетных местах; что всё делается достойным образом, а за нарушение порядка карают смертью. И тот скандал привел меня в ярость. Ведь мы репетировали эту пьесу специально для их фестиваля; и я еще не успел выйти на сцену в роли Аполлона.
Читать дальше