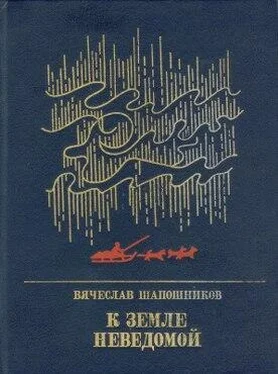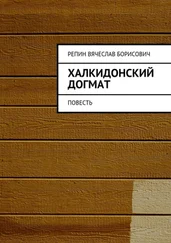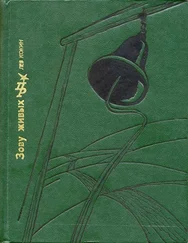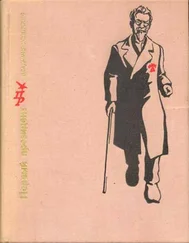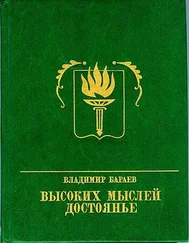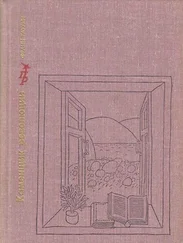Все последние месяцы Егупов провел в изнурительной борьбе с самим собой. Мысли его метались, ища выхода из заколдованного круга, в котором он оказался. Неужели то, что так неотвратимо приблизилось к нему, называется предательством?! Разве это так? Ведь он держался, сколько мог! Ведь все почти уже на воле. Даже Кашинский! Не просто же так они отпущены. Выпутались как-то, какой-то ценой… Цена же тут могла быть одна — откровенные показания. Стало быть, если и он, уже после многих, даст их, они уже в известной степени будут постфактум, а стало быть, он в основном лишь повторится. Тем более что жандармам, как он понял, многое было известно заранее. Да, он проявит досадную слабость, которая тем более досадна, что так много отдано было сил на сопротивление. Но если продолжать держаться, то сколько еще все это может протянуться?.. И что дальше? Тюрьма. Ссылка. Лучшие годы, вычеркнутые из жизни… И все это — ради чего? Ради неких идей, в плену у которых он оказался, ради какой-то б о р ь б ы, в которую он включился (если не обманывать самого себя) по азарту молодости, в юношеском угаре. Ведь что затащило его в эту самую борьбу? Какая такая необходимость? Знал ли он хотя бы сам народ, от имени которого действовал? Нет. Не знал. Не имел такой возможности. Просто претила однообразная, бессобытийная жизнь, просто хотелось каких-то щекочущих нервы ощущений, необыкновенной деятельности… И вот ради всего этого он должен пожертвовать собой?!
— Я хотел бы дать показания, — не сразу ответил Егупов на вопрос полковника.
Тот усмехнулся:
— Это уже кое-что. Я знал, что вы согласитесь!
— Только… я… хотел бы дать непротокольные показания. Мне надо все описать… Объяснить… — Егупов просительно посмотрел на полковника. Тот кивнул:
— Понимаю вас! Но очень-то не растекайтесь…
Курносое лицо полковника с пышными усами и николаевскими баками излучало сияние: все-таки сломался этот изолгавшийся «конспиратор»!
— Я сейчас распоряжусь насчет бумаги. — Полковник поднялся и, кивнув Стремоухову: мол, надо выйти, направился к дверям. Стремоухов, собрав разложенные бумаги, тоже вышел.
Вскоре полковник вернулся один, положил перед оцепенело сидевшим Егуповым стопу листов:
— Прошу вас… Трудно будет приступить! Я это понимаю. Но — помните: чистосердечное раскаянье искупает все! Понимаете? Все! Приступайте! Воnа fide! Bona fide! [9] Честно, чистосердечно (лат.).
Я оставляю вас наедине с вашей совестью!
Он еще раз тронул Егупова за плечо и посмотрел yа него, как на какого-нибудь юнца, «извлеченного из мрака заблуждения», Затем вышел.
«Оставленный наедине со своей совестью», Егупов еще с минуту посидел оцепенело, глядя на стопу листов. Трудно, ох как трудно было браться за перо!..
«Пусть, пусть будет, как будет, только хватит с меня всего этого!..» — Егупов вздрогнул: ему показалось, что эти слова он сказал вслух. Затравленно глянув на дверь, за которой было тихо, но за которой наверняка находился чутко прислушивающийся страж, он придвинул к себе листы белой, в голубенькую линейку, бумаги, обмакнул перо, помедлил…
«Итак, я оставляю вас наедине с вашей совестью!..»
Перед ним возникло усмехающееся лицо полковника, говорившего о его совести, а разумевшего его слабость, его окончательную сломленность…
«Трудно будет приступить! Я это понимаю. Но — вомните: чистосердечное раскаянье искупает все! Понимаете? Все!..»
«12 июля 1893 г.
В Московское Губернское Жандармское Управление, — решительно начал Егупов и опять замешкался, разбежавшаяся было рука опять стала непослушной, словно бы чужой. Не вдруг он справился с охватившей его слабостью. Перо побежало дальше:
«Просидев в одиночном заключении с лишком год и обдумав те обстоятельства, которые привели меня к такому грустному положению, в котором нахожусь ныне, и решил откровенно объяснить все то, что мне известно пo делу, по которому я арестован.
Так как я решился раскаяться, то поэтому я начну с того момента, как я втянулся в это дело…»
Рука опять остановилась. Он перечитал написанное. Покривился: жалкие, жалкие слова… На память пришли ходячие слова Бюффона: «Le style — e'est l'homme». [10] «Стиль — это человек» (фр.).
Покивал, не щадя себя: «Жалкий слог жалкого человека…» Посомневался: «И зачем я буду забираться в такие дебри? Моя юношеская игра в «политику»… Вряд ли полковника интересуют такие «глубины»… Решился: «Но надо же объяснить все! Вычертить весь путь моей заблудшей души, со всеми его «кривыми» и «ломаными»! Уж исповедь так исповедь!..»
Читать дальше