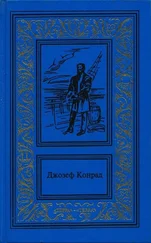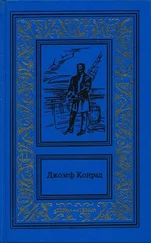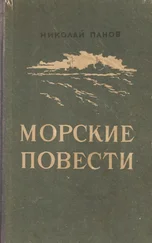2
Шторм продолжал реветь.
В живой природе, окружающей человека, нет ничего, с чем можно было бы сравнить этот тяжелый, низкий, непрекращающийся рев штормового моря.
Вечерняя тьма скрыла от людей все остальное — были только звуки, и они переполняли человека, они сжимали сердце неизъяснимым страхом, — звуки, метавшиеся в черной ночи.
И вдруг Листопадов услышал: кто-то рядом совсем по-домашнему, тихо напевает песенку; и странно: стала слышна только одна она, негромкая и рассеянная:
Под городом Горьким,
Где ясные зорьки.
— Кто поет? — удивленно произнес командир.
И штурман Гаврилов поднял голову:
— Простите, Дмитрий Алексеевич, забылся…
Песенки больше не было, и снова стало слышно море. Теперь это было похоже на то, как если бы сразу играли на тысяче, нет — на ста тысячах виолончелей, и все — на басовых рокочущих струнах: однообразно и угрюмо. «Музыка шторма», — усмехнулся командир и велел принести чаю покрепче.
— Вам тоже, Шамшурин?..
Трудно сказать, как распространяются новости на корабле, но это факт: любая весть, касающаяся личного состава, через полчаса будет известна на всех боевых постах. Сейчас корабль гудел растревоженным ульем: матросы просяще заглядывали в глаза старшинам, а те и сами ничего толком не знали — кого помощник отберет идти спасать эту девушку?..
Кто-то предлагал жеребьевку, кто-то напирал на то, что идти должны отличники боевой и политической подготовки. И только когда раздался короткий щелчок в динамиках, все умолкли.
— Команде второго катера, — голос капитан-лейтенанта Шамшурина был, как всегда, спокоен, — а также старшине Левченко… приготовиться к спуску катера.
3
ЗАПИСЬ В ВАХТЕННОМ ЖУРНАЛЕ
«…20.55. Курс норд-норд-ост, идем к мысу Озерному.
В 21.05 отправлен катер на Озерновскую сельдевую базу, по радиопросьбе о срочной медицинской помощи. Отбыли: капитан медицинской службы Остапенко, старшина первой статьи Левченко, матросы Безруков, Лопатин, Кропачев.
Шторм стихает…»
4
Малахов все еще сидит в пропахшем лекарствами каютке у фельдшера, привалившись к переборке. Капитан куда-то ушел, и Малахов, закрыв глаза, отдается своим невеселым мыслям: теперь можно не делать перед матросами вида, что ты спокоен, можно не бояться, что они заметят твою печаль, — трудна командирская доля. Горькая складка лежит у его рта. Эх, Сашка, Сашка, на кого ты будешь похож, образина искалеченная, когда пройдут эти окаянные ожоги?..
Он еще и до флота, в этой Костроме, считался парнем отчаянным, «рисковым», как говорили восторженные детдомовцы. На Волге, повыше дебаркадера, был, говорят, страшенный омут — туда мальчишек запросто засасывало. А он только смеялся: откуда тут ему взяться — омуту? И с разбегу прыгал в темную, страшенную глубь. Он — что уж тут, дело прошлое — излазал все окраинные сады и перепробовал кислые, северные яблоки со всех чужих яблонь.
Да и на корабле он вроде был не из тех, кто в раздумье чешет затылок, если какая опасность.
А вот Катю он боялся. Он перебирал в памяти всю свою недолгую любовь, но не с начала, не со знакомства, как это делают все на свете, а с той последней минуты, когда Катя швырнула на скамейку его букет и, скорбно выпрямившись, прошептала дрожащими губами:
— Ну и пожалуйста! Ну, и можешь делать все, что тебе угодно!..
А Малахову тогда было и смешно, и досадно, и радостно. Радостно от мысли, что, если ревнует, значит, любит, значит, он ей не так уж безразличен. Он где-то прочел изречение, и оно ему здорово понравилось: «Ревность — это тень любви, исчезает любовь — исчезает и ревность». Досадно, что так это по-глупому получилось и что из-за какой-то чепухи все может расстроиться.
А смешно потому, что случай уж очень забавный. Он пытается качнуть головой — ну и история, — но острая боль снова проходит по всему телу. Малахов тихо ругается и опять все думает, думает…
Всего-то он и провинился, что рассказал Кате, как в прошлом году написал письмо одной киноактрисе.
Все люди смотрят кино, да не так, как матросы. Фильмы на кинопрокатную базу флота привозят сразу чуть ли не на полгода, и поэтому моряки имеют удовольствие видеть одну и ту же картину великое множество раз, с короткими промежутками в две-три недели. Впрочем, это их вполне устраивает: каждый раз они смотрят как бы наново, с тем же, что и в первый раз, интересом. И в любом фильме они помнят любую мимолетную сцену; а если в речи героев попадется афоризм, он уже навсегда поселится в корабельном кубрике. Такие крылатые киноизречения передают по наследству от одной перемены личного состава к другой; и глядишь, нет-нет да и проскользнет в матросской речи фразочка из какой-нибудь картины еще довоенных времен.
Читать дальше


![Георгий Пряхин - Интернат [Повесть]](/books/29922/georgij-pryahin-internat-povest-thumb.webp)