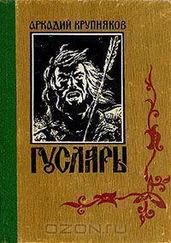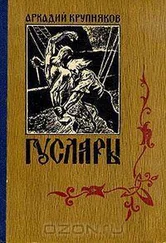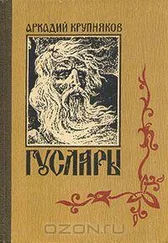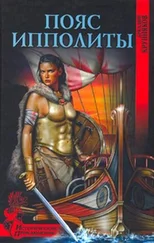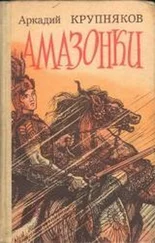— У него спроси.
— Дочка велика ли?
— Двадцать первый идет.
— Покличь. Скажи — воеводский подьячий зовет.
Мужик вышел, оставив дверь землянки открытой.
Сухота подошел к нарам, приоткрыл шубу, спросил:
— Простудилась, ай что?
— Кости болят, — простонала женщина. — Всю жисть по землянкам сырым… О, господи!
— Лекаря звали?
— Где тут лекарь. Аленка, дочка, травы знает, снадобья варит. Если бы не она.
— Девку твою видел. Замуж ей пора.
— Женихов нету. Леса кругом, болота.
— Я позабочусь.
В дверях появилась Аленка. Она прошла к нарам, на подьячего даже и не глянула, будто его нет совсем. Подняла с пола кафтан, набросила на плечи, села около матери.
— О тебе разговор шел, — строго произнес Сухота. — В город приходи, работу дам, место подыщу хорошее.
— Мне и здесь неплохо, — ответила Аленка не глядя на подьячего.
— Ты девка видная, красивая. Ты как горох на дороге. Кто не пройдет — всяк ущипнет.
Аленка поднялась, распахнула кафтан, положила пуку на черенок привешенного к поясу ножа, повернулась к Сухоте, сказала дерзко:
— Пусть попробуют. Я так ущипну! — И блеснула глазами. Подьячий вздрогнул, про себя подумал: «Такая прирежет и глазом не моргнет».
— Зачем звал, говори?
— На тебя посмотреть хотел. Всех, кто в воеводстве пребывает — я знать должон.
— Посмотрел? Ну и поезжай с богом. Мне к табуну пора. — И вышла.
— Вон какая! — Подьячий поднялся со скамьи, сказал в сторону больной — Передай мужу, чтобы в город явился, ко мне зашел. Я его в списки внесу. Инако как беглых поведут на воеводский двор, под батоги. Всех троих.
На обратном пути Сухота заехал в деревню, узнал о кузнеце подробности. Бабы рассказали, что живет Ор-тюха на Мокше третий год, кует всякую кузнь: ухваты, сковородники, сошники, зубья для борон — тем и кормится. О дочке бабы говорили, перекрестясь, — ведьма с бесовским взглядом.
Всю дорогу Аленка не выходила из головы подьячего. Было ясно, что кузнец в бегах, инако зачем ему хорониться в глуши лесной. И еще было ясно — барину он выгоден. В списках кузнеца нет, тягла он не несет, под налог государев не подходит. И польза от него только помещику: почти даром пасет его лошадей, кует их и поставляет все железные изделия. И — кто знает — может, Андреян эту дикую ягодку-малинку бережет для себя? Беглых, бессписочных людей к нему прибилось немало, о них воеводе, конечно, известно, а кузнеца почему-то держит от всех в тайне. Наверно, не зря. Тоже кобель старый: и жена при себе, и крепостных девок полон двор — так на тебе, еще на лесную красавицу-ведьму позарился. А он, Ондрюшка, в свои тридцать пять лет един яко перст… Погоди, Андреян Максимыч, я ужо подумаю, как обхитрить тебя. Припугнем мы тебя и воеводу сокрытием беглых людишек, за такие дела государь-батюшка не жалует. А потом смуглянку эту подставим воеводе. Старый вдовец замуж ее, конечно, не возьмет, а при дворе оставит. Вот тут и не зевай, подьячий…
…Табунок был небольшой — сорок лошадей. Как только в лесу появилась трава, прислал их Андреян Максимович на попечение кузнецу Ортюшке. Наказ был такой: пусть кони пасутся на лесных полянах до троицы, а после всех заново перековать, искупать в реке Мокше и доставить на господский двор для продажи.
Вожаком в табуне был вороной жеребец с белой отметиной на лбу. Могучий, с широкой грудью, он властвовал над лошадьми безраздельно. Водил табун с поляны на поляну, не позволял рассыпаться по лесу, защищал кобылиц от волков и прочего лесного зверя.
Про Белолобого кузнецу было сказано: никого, кроме хозяина, не признает, никому, кроме Андреяна, на себя садиться не позволяет. Может-запросто убить.
Аленку это упреждение только подзадорило. Три лета подряд она пасет табуны, скачет на любой лошади, а тут вдруг — зашибет. Дня три она приглядывалась к Белолобому со стороны, потом взяла нагайку и пошла к табуну. Отец понял намеренье дочки, но задерживать ее не стал — бесполезно. «Все одно ей стеречь этот табун чуть не все лето, все равно она от этого жеребца не отступится».
Девка сызмала росла своеобычной. Отец Аленке не препятствовал ни в чем — он и сам не терпел над собой насильства. Лет до двенадцати девчонка бегала в штанах, сарафан надевала редко. В юность вошла по-мальчишески дерзко, смело. Дралась с деревенскими парнишками сверстниками, верховодила ими. На удивление всем к пятнадцати годам у Аленки сломался голос. Говорить она стала грубовато, властно, по-прежнему водилась не с девчонками, а с мальчишками-подростками.
Читать дальше