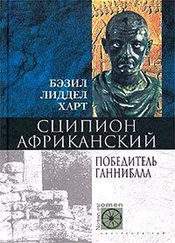Пусть мой сон не имеет политического значения, зато он интересен своей глубиной, ибо наглядно демонстрирует положение, сложившееся в нашей культуре. Сон потрясает меня, как потряс бы любого карфагенянина, который, подобно мне, гордится своим греческим образованием, гордится и в то же время полон сомнений: что мы выиграли, чего добились сим приобретением? Мы (под этим «мы» я подразумеваю влиятельную элиту) страдаем от неуверенности и колебаний. Мы раздвоены и обеспокоены своей принадлежностью к меньшинству. Нас терзает сопротивление, с которым приходится сталкиваться. Мы подозреваем, что тут есть наша вина, что мы прилагаем недостаточно усилий, что нам не хватает убедительности. К тому же мы живём и жизнью большинства, а это накладывает свой отпечаток. Как и все прочие, мы связаны с финикийским Древом Жизни, и нам делается страшно, когда по этому Древу начинают бежать трещины, когда они доходят до корней, где ощущаем боль мы, но не все прочие. Нас охватывает ужас от сознания того, что ждёт человека без корней. Нет ничего легче, чем предвидеть его судьбу: беззащитность, опустошённость, утрата всякого смысла жизни — за исключением того, что придаёт ей мучительное наказание, например, когда из человека делают козла отпущения, когда его выбрасывают в виде падали, которой охотники приманивают крупного зверя.
Вот что ожидает человека, отказавшегося от наследия, пожелавшего отсечь собственные корни. «Тебя ждёт смерть на чужбине с вывороченными корнями» — так (по дошедшим до меня слухам) предрёк Ганнибалу один старик. В теперешнем, потрясённом, состоянии мне мерещится ещё худшая судьба: ещё большие беды, а затем и гибель для всех.
Карфагеняне, как и все западные финикияне, сумели сохранить свою самобытность, а вместе с ней и могущество, прежде всего благодаря тому, что никогда не отрекались от прошлого. Они никогда не отказывались ни от своей религии, которая существовала изначально, ни от своего языка, который они получили в дар от богов, — даже та горсточка финикиян, что была заброшена на западные мысы, где оказалась в окружении если не враждебных, то, по крайней мере, недружелюбных народов, говоривших на звериных языках и придерживавшихся фантастических обычаев и нравов. Основная масса карфагенян не даёт соблазнить себя эллинскими изысками. Не препятствуя нашему увлечению ими, она, однако, пристально следит за нами. И позорный столп уже установлен и дожидается нас.
«Ты говоришь, греческий стал вселенским языком? Как же, как же! Не от тебя первого слышу, но наш ответ будет прежний: враки, самые натуральные враки. Что это за глупости — вселенский язык? Можно подумать, кругом не звучат тысячи других языков, хотя бы тот же отвратный, топорный язык римлян, который не понимают даже италийские народы».
Карфагеняне подвергают распятию своих неудачников, тех, кому не повезло и кто пал духом. Нас клеймят перед всем честным народом, а потом, облачённых в изысканно-скромные греческие одежды, подвешивают на дереве и прибивают гвоздями.
Слова, которые я сейчас вывожу, смущают мой разум, что вполне естественно. Тем не менее рука моя не дрожит, ибо я готов написать и не такое.
«Дорогие карфагеняне, проклятые торгаши! — продолжаю я. — Возлюбленный Ганнибал, мой Орёл и моя Путеводная Звезда! И ты, достопочтенный отец, ты, незадачливый негоциант и барышник! Настала пора вам всем узнать, к чему стремится моя душа. Я хочу превзойти язык, который сейчас пользуется самой высокой репутацией во всей ойкумене. Я хочу сделать финикийский общепризнанным языком, чтобы когда-нибудь о нём говорили: с точки зрения карфагенян, это вселенский язык. И конечно же я хочу поднять престиж всего, о чём напрочь забыли вы, купцы и противники наступательных действий: престиж поэзии, науки, образованности».
«Слушайте и дивитесь! — твёрдой рукой вывожу я. — Я, Йадамилк, собираюсь создать эпос, который превзойдёт поэмы Гомера. Весь мир истосковался по первоклассной эпике. Куда бы ни заносила меня судьба, везде я ощущал эту свербящую тоску по широкому эпическому полотну. В Александрии уже устали от лирики и обрубленных эпиллиев, «маленьких эпосов». Там, словно вшей, вычёсывают из головы Каллимаха [33]и иже с ним, отплёвываются от набившего оскомину тезиса «мега библион мега какой» («большая книга — большое зло»). Все ждут не дождутся спокойного повествовательного тона с глубоким дыханием и сменой картин».
«Послушайте меня, карфагеняне, ибо я говорю правду!» — заострёнными финикийскими буквами пишу я.
Читать дальше
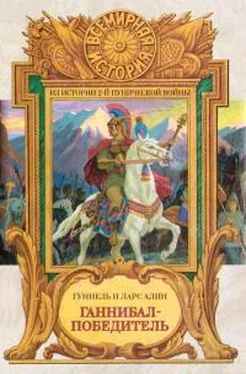

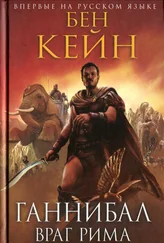

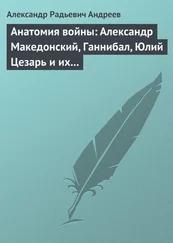


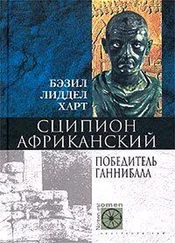
![Джеймс Ганнибал - Проклятие китайской гробницы [litres]](/books/385823/dzhejms-gannibal-proklyatie-kitajskoj-grobnicy-litr-thumb.webp)
![Джеймс Ганнибал - Четвертый рубин [litres]](/books/385824/dzhejms-gannibal-chetvertyj-rubin-litres-thumb.webp)