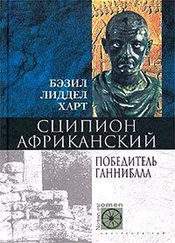Интеллектуальная жизнь финикиян всегда и везде протекает под эгидой храмов. О том, чтобы получить одобрение своих радикальных идей в Карфагене, нечего было и думать. В нашей же варварской колонии, в недавно возникшем Новом Карфагене, добиться согласия было бы вполне возможно, если только убедить в пользе дела Ганнибала. Рассуждая так, я с самого начала принялся ратовать за свои прожекты, подробно расписывая их и упирая на то, что задуманное мною не может уместиться ни в цирюльне, ни в винном подвальчике, ни в дальнем углу какого-нибудь не самого людного торжища. Мои свободные учреждения должны были получить одобрение высших инстанций — хотя бы неофициальное. Карфагенянам тоже пора было получить возможность на время покидать храмовые дворы и вдали от Аргуновых очей [21]и тысячепарных ушей священнослужителей приобщаться к чистому знанию, учиться новому мышлению, овладевать началами (архе) диалога, а также искусством спора с предъявлением доказательств — осваивать всё это и многое другое, причём не таясь, при свете дня и полной поддержке имперских властей. В этом случае никто не мог бы заподозрить меня в посягательстве на нашу веру, в распространении безбожия, в сеянии вражды и смуты среди нас, карфагенян.
И влиятельные люди действительно прислушивались ко мне, за исключением, пожалуй, Ганнибалова братца Гасдрубала [22]. Но всё это осталось позади. Разразилась война, и мы идём походом на Рим. Ганнибал повелел мне — «Архомай» («Я повелеваю»), сказал он по-гречески — присоединиться к своему сонму писцов, и я подчинился его приказу как ради Орла, так и ради собственного будущего. О том, что Ганнибал и вправду навострил уши и с большим интересом слушал мои речи ещё в Новом Карфагене, а затем, утешая меня, в Гадесе [23], я расскажу в своё время.
Теперь же пришла пора снять с полки памяти что-то другое, а именно горшочек с верещаньем и зубовным скрежетом недругов, дабы поближе познакомить вас с тем, как они портили мне по утрам аппетит.
— У тебя двое рабов, которые моют твои ноги и следят за твоим платьем, — наперебой говорят мои коллеги. — Твоя поклажа тяготит не твой хребет, а их. Мул у тебя тоже идёт тяжело гружённый. Что ж ты не чуешь неладное? Неужели не понимаешь, что в любую минуту может прийти служитель из солдат, который потрясёт твой личный обоз, так что у тебя не останется ничего из того, что ты наскрёб себе в дорогу?
Вот какие речи мне приходилось выслушивать, какие глупости терпеть. Словно Орёл уже не определил мои привилегии. Словно сам я не нёс те ценности, которые невозможно доверить рукам и спинам рабов. Ничего, уговаривал я себя, моё время ещё придёт, то время, когда вам останется только заткнуться. Час спустя меня больше всего удивляло одно: нападая на меня, никто из этой братии не принимал во внимание и даже словно не понимал, насколько я отличаюсь от них по рангу. Кто из богов внушил им эту забывчивость? Или её следует отнести на счёт уравниловки, которая возникает на войне внутри каждой боевой единицы? По-моему, такая уравниловка объясняется смятением перед лицом опасности, когда кажется, что твоя жизнь в руках соратника: стоит ему протянуть руку, и ты спасён, если же он не подаст помощи, твоя жизнь пропадёт ни за грош. Не на этой ли морали зиждется армия? Невидимые узы такой взаимозависимости, несомненно, уравнивают и объединяют.
Но мои, так называемые, коллеги не солдаты, а писцы!
Не успел я описать все эти досадные глупости, как уже жалею, что занёс их на бумагу. Вернее, слово «глупости» пускай остаётся, оно тут с умыслом. Но жалеть я всё-таки жалею. Про раскаяние я тоже пишу с умыслом — пусть здесь стоит, что я раскаиваюсь. Со мной так часто бывает: о том, что меня ждёт в будущем, я рассуждаю вдохновенно и с тайной надеждой, тогда как повседневное и пошлое раздражает меня и вызывает зуд по всему телу. Когда впереди маячит совершенно определённая великая цель, трудно быть снисходительным ко всяким глупостям и пустякам, которые, если ты хочешь чего-нибудь добиться в этой жизни, приходится шаг за шагом преодолевать, а иногда просто-напросто изничтожать на месте.
Помнится, сходная история приключилась со мной, когда я поступил учиться на писца. Зачем было прилежно корпеть над всеми этими словами и буквами? Почему нельзя было сразу дать мне писать связные тексты? Я ведь делал это дома с младых ногтей. И почему было не дозволить мне доступ к нашим древнейшим сокровищам — священным стихам и молитвам, героическим эпосам, повествующим о деяниях богов и подвигах праотцев? Я ведь был начитан и наслышан, я многое запомнил и мог в любую минуту повторить — слово в слово, с соответствующим выражением и преклонив голову перед своим ничтожным наставником, а если бы потребовалось, и перед самим Великим когеном, первосвященником.
Читать дальше
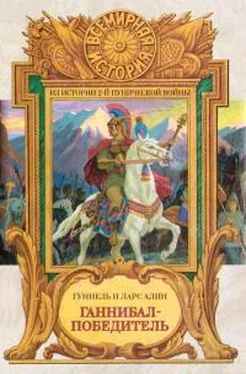

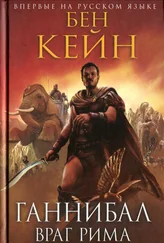

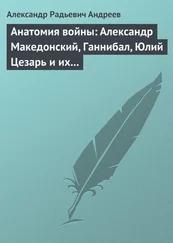


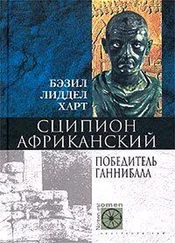
![Джеймс Ганнибал - Проклятие китайской гробницы [litres]](/books/385823/dzhejms-gannibal-proklyatie-kitajskoj-grobnicy-litr-thumb.webp)
![Джеймс Ганнибал - Четвертый рубин [litres]](/books/385824/dzhejms-gannibal-chetvertyj-rubin-litres-thumb.webp)