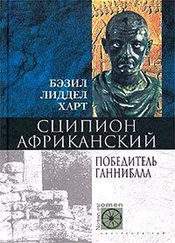Ганнибал уникален и невозместим. Вот почему ни его поступки, ни сам необъяснимый факт его существования среди нас не могут привести к созданию каких-либо институтов. Нет-нет, никаких придворных церемониалов, тайных камарилий [8], разросшейся бюрократии, всё более исступлённой гонки по лабиринту параграфов, один из которых исключает действие другого (чему способствует зараза разночтений и хитроумных толкований), пока донельзя распространившиеся взятки не подавят своей весомостью крючкотворов, которым останется лишь соглашаться и кивать, соглашаться и кивать.
По своим убеждениям и целям Ганнибал (да позволено мне будет так выразиться) — антимонарх. Его оригинальность нельзя продемонстрировать с помощью знаков различия и прочих атрибутов. Подобно еврейскому Яхве, любое его изображение будет обманчивым, даже бессмысленным. Ибо Ганнибал воздействует на образ мыслей, на политическую и культурную обстановку, на то, что люди ценят в жизни. Он даёт формально свободным мужам подлинную свободу действия. Когда минует война, это станет ясно всему известному миру. Я же пришёл к такому выводу во время своего приватного разговора с Ганнибалом.
Я тогда осмелился похвалить его за недавнее распоряжение, согласно которому из храма бога Мелькарта было вынесено изваяние Александра: много лет назад этого идола с детской непосредственностью заказал и определил для него место сам Ганнибал. Теперь статую поставили среди других фигур в Ганнибаловых садах, так что якобы имевшего божественное происхождение македонянина спустили к нам, прочим смертным. Конечно, он был весьма неординарным человеком... кто же спорит? Но не правильнее ли было бы раз и навсегда заклеймить его проклятием? Ведь Александр разрушил Тир [9], откуда ведём своё происхождение мы, карфагеняне, и вдобавок развратил восточных финикиян, за что мы по сей день думаем о них с чувством стыда и неизбывной горечи.
Здесь я сумел сделать удачную вставку. У меня в запасе оказалась правдивая история, которой Ганнибал никогда раньше не слышал.
Дело обстояло следующим образом: Александр собирался снять осаду Тира и мчаться дальше, за добычей полегче. Македонянин был разгневан и расстроен тем, сколько времени ему пришлось потерять из-за упорства защитников города. Он уже решил снова выступить в поход, однако накануне выступления ему приснился сатир, танцующий на щите, в котором Александр узнал свой собственный. Эта выходка потрясла полководца до глубины души. А надо сказать, что Александр всегда окружал себя сонмом предсказателей. Один из них, по имени Аристандр, и прославился изящным толкованием сего сна. Лично я предпочитаю называть этого толкователя Словоборцем. Ведь что он сделал? Он просто-напросто разорвал греческое слово «сатирос», и у него получилась фраза: «Са тирос». А «Са Тирос» означает не что иное, как «Тир — твой». Пророчество сбылось. Тир покорился Александру.
Ганнибал слушал меня с горящим взором. Я имел успех. Мне пела хвалу сама Жизнь. Засим я покинул дворец в Новом Карфагене, равного которому по величественности, красоте и роскоши не было даже в старом. Жизнь не умолкала. Мне не оставалось ничего иного, как застыть на месте и прислушаться к её словам.
«Ты, Йадамилк, проживёшь до глубокой старости, станешь знаменитым, уважаемым и почитаемым. Через тебя произойдут великие дела».
Вот как сладостно пела Жизнь.
«Что же такое произойдёт через меня?» — с улыбкой вопрошаю я и, словно за руку, хватаюсь за дольчатый лист с ближайшего куста и слышу откуда-то сбоку, позади себя, звенящее журчание невидимого источника или фонтана.
«Что? Ты и сам знаешь, Йадамилк, — пением отзывается Жизнь. — Ты уже давно нашёл ответ на этот вопрос и только что подтвердил его, представ перед царственным ликом Ганнибала».
«Когда я слушал Ганнибала, я вдруг словно уменьшился, сделался ему по колено; потом я как будто обратился в малую птаху».
«Значит, ты мог бы взлететь к его устам, к его прекрасным бровям... мог бы сесть ему на макушку», — насмешливым голосом продолжает петь Жизнь.
«Я переживу Ганнибала, — шепчу я. — Стану, старшим из нас двоих. Мне предстоит увидеть конец его трудов, а не ему — моих».
В этот миг мной овладевает желание оглянуться на возвышающиеся сзади фасады дворца, суровая внушительность которых призвана отпугивать тех, кому нет входа в эти палаты, а великолепие и роскошь — умерять раздражительность и скептицизм посторонних: дескать, у нас, карфагенян, хватит сил остаться тут на вечные времена, так что смотрите, иберы [10], и мотайте на ус, что мы, «скаредные купцы», можем позволить себе, когда нам этого хочется.
Читать дальше
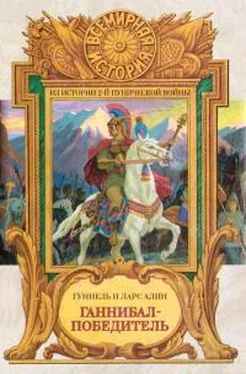

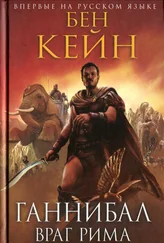

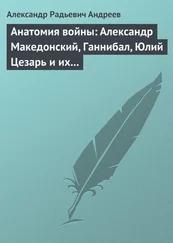


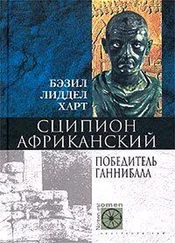
![Джеймс Ганнибал - Проклятие китайской гробницы [litres]](/books/385823/dzhejms-gannibal-proklyatie-kitajskoj-grobnicy-litr-thumb.webp)
![Джеймс Ганнибал - Четвертый рубин [litres]](/books/385824/dzhejms-gannibal-chetvertyj-rubin-litres-thumb.webp)