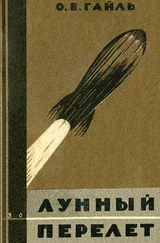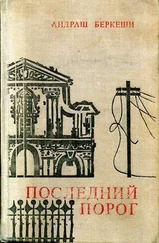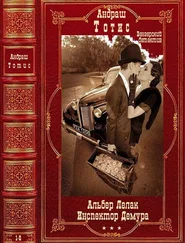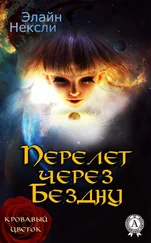Наконец мы получили телеграмму и от Яноша Вёрёша. Она была послана из Москвы 10 января, но к нам пришла только 16-го. Написана она была по-русски. Делегация, в состав которой входил Янош Вёрёш, выехала в Москву в последних числах декабря 1944 года, а мы в Дебрецене никак не могли взять в толк, почему переговоры так затягиваются, ведь каждые сутки промедления имеют огромное значение. Только позднее мы узнали: переговоры задержались из-за позиции англичан и американцев, которые очень долго обсуждали условия соглашения…
Мы же в Дебрецене были как на иголках: Яноша Вёрёша нет, соглашение по перемирию не подписано, а время уходит. И вот наконец в середине января мы получили телеграмму в 12 строк от министра. Характерно, что четыре из них были посвящены семейным делам самого Яноша Вёрёша. В телеграмме сообщалось, что мы можем приступать к формированию первой дивизии. Однако ничего не говорилось, из кого же нам все-таки формировать ее. В телеграмме говорилось: «Необходимо издать декрет о призыве».
Что же произошло на деле?
Вероятно, при переводе телеграммы на венгерский язык декрет об обязательном призыве в армию военнообязанных перевели как вербовку добровольцев в соответствии с более ранним представлением, сложившимся скорее всего еще в конце декабря у Яноша Вёрёша. Разумеется, вербовка добровольцев существенным образом отличается от обязательного призыва в армию военнообязанных. 19 января мы направили Яношу Вёрёшу наш ответ: «Объявляем добровольный набор в армию», а исполнявший обязанности министра обороны в отсутствие Яноша Вёрёша Габор Фараго тут же приписал от себя: «…мы не надеемся на большое число добровольцев…» Правда, премьер-министр Бела Миклош, подписывая окончательный текст телеграммы, вычеркнул эту фразу.
Я уже говорил, что в то время и сам не ждал особого успеха от добровольной записи в армию. Было бы здорово, конечно, сформировать (и быстро обучить) несколько дивизий из добровольцев, над которыми не довлел дух старой, «королевской» армии и в которых бы сражались с врагом добровольно пришедшие к нам убежденные молодые антифашисты. Но в то время формирование подобных подразделений относилось скорее к области фантазий и прекрасных снов. Ведь уже в 1944 году на расчистке развалин работали подростки-допризывники по 13–15 лет, а если где-то в городе или деревне и оставались взрослые мужчины, то они были единственной опорой в семье. Вот и получилось, что своим добровольным набором мы не добились почти никаких результатов. Не все еще в стране знали о существовании нового правительства, о создании новой армии. А в тех семьях, где молодые мужчины были, родственники всеми силами пытались удержать их дома, чтобы они не погибли; все чувствовали приближение конца войны, которая унесла столько жизней, что практически в каждой семье кто-нибудь погиб.
Однако мы продолжали усердно трудиться. В лице Золтана Мухораи мы обрели еще одного сотрудника-энтузиаста. Нас с ним связывала дружба по академии, и мы понимали друг друга с полуслова. Мухораи стал заниматься кадровыми вопросами.
Я уже упоминал о приказе № 20030, в котором мы сформулировали основные организационные принципы новой армии, ее новые задачи и функции. Теперь мы начали разработку более детальных предложений, которые направляли в совет министров, чтобы проинформировать членов правительства о громадных усилиях, необходимых для формирования, создания новой венгерской армии. Мы предложили отменить положение о вступлении офицеров в брак, кодекс офицерской чести, дуэльный кодекс. Все эти правила и законы носили ярко выраженный кастовый характер, символизировали обособленность старого офицерства. (Интересно отметить, что, по мнению Белы Миклоша, эти кодексы следовало не отменить, а лишь модифицировать.) Однако мы стремились к совсем другому: к тому, чтобы офицерство в новой армии (и это стало впоследствии основополагающим принципом в Венгерской народной армии) было народным, чтобы офицерство формировалось не из аристократов, не из привилегированных в имущественном отношении слоев населения и не образовывало бы обособленную касту. Мы считали, что офицерами должны становиться унтер-офицеры, сержанты, фельдфебели, хорошо знающие военное дело, солдатскую жизнь, потому что сами недавно были рядовыми. Надо сказать, что мы, молодые офицеры, выходцы не из аристократических и даже не из богатых буржуазных семей, очень страдали из-за ограниченности и узколобости старого офицерства…
Читать дальше