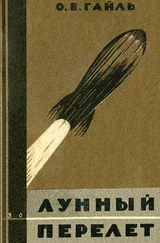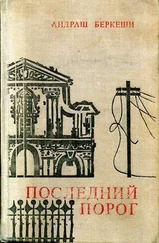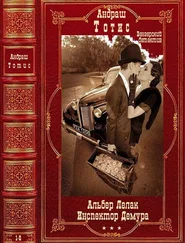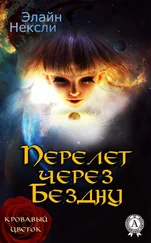Далее: «Приятным сюрпризом было то, что во второй половине сентября нам целыми вагонами стало поступать зимнее обмундирование: плащи, теплое белье, толстые брюки, мундиры, сапоги, а потом и лошади для пополнения состава наших кавалерийских подразделений. Даже старшие, уже немолодые по возрасту офицеры с удивлением констатировали: впервые заявки были удовлетворены (…). Трудно, разумеется, снабжать самостоятельно действующий, находящийся на расстоянии от 1500 (считая до Днепра) до 2 тысяч (считая до Донца) километров экспедиционный корпус. Вот характерный пример. Отправляясь из Кривого Рога на легковых автомобилях в Венгрию, мы нагружали грузовик бочками с бензином и только после этого двигались в тыл, предстоял путь длиной в 1200 километров. Наше «путешествие» можно было сравнить лишь с переходом полчищ хана Батыя или с блужданиями по степям предков-венгров…»
Далее: «Необходимо упомянуть о крайне неудовлетворительном и скудном снаряжении медсанбата. На его вооружении были керосиновые лампы времен Аладдина. Мы воочию убедились, к чему приводило отсутствие рентгеновского оборудования. При его наличии было бы спасено множество человеческих жизней, не пришлось бы ампутировать руки и ноги… Совершенно не был решен вопрос о стоматологическом обслуживании наших войск. Из девяти врачей санбата было всего два хирурга. Разумеется, на их долю пришлась львиная часть работы по медицинскому обслуживанию корпуса, в то время как прекрасный врач-психиатр сидел без дела…»
Далее: «Из ста пятидесяти мотоциклов к сентябрю исправных осталось лишь пять. Из полагавшихся по штатному расписанию автомобилей — едва двадцать процентов. Танкетки «Ансальдо» не поспевали даже за пехотой. Во время атак часто застревали в грязи и становились легкой добычей при контратаках противника в ближнем бою. И хотя легкие танки «Тольди» оказались выносливее, они все же не дошли до Днепра. Это свидетельствует о том, что в современной войне предпочтительнее танки среднего типа. В ответ на наши просьбы о замене негодных автомобилей к нам вместо них стали прибывать различные комиссии. Тогда наши ремонтники просто перестали ремонтировать автомобили.
На войне не бывает мелочей, из-за пустяков ее можно проиграть: к концу сентября в каждом из самокатных батальонов нашей бригады набралось по роте солдат, маршировавших на своих двоих — целый месяц мы не получали резиновый клей».
— Ну, хватит об этом. Посмотрим, как обстояли дела с нашими лошадьми.
ИЗ ОТЧЕТА ШИМОНФИ-ТОТА: «Фураж для наших лошадей немцы не поставляли. Они считали, что наши лошади чересчур привередливы, лошади, дескать, могут прокормиться и травой с обочины. Несомненно, лошади, попадавшие к нам после реквизиций, выглядели не так привлекательно, но эти неприхотливые, выносливые животные выдерживали переходы гораздо лучше, чем наши холеные, привыкшие получать по пять килограммов специального корма лошади. Об успехах советской колхозной системы свидетельствовало то, что на протяжении всего пути мы всегда обнаруживали достаточно фуража на колхозных скотных дворах».
Далее: «У Коломыи пришлось устроить первый сборный пункт для больных лошадей. Там мы оставили 260 голов. В двадцати километрах от Каменец-Подольска организовали еще один «лошадиный госпиталь», число больных лошадей в нем достигло 859. За три недели мы потеряли приблизительно 1300 животных, что составляло около двадцати процентов лошадей, имевшихся в нашей бригаде… Прошли же мы всего 400 километров. На переходе от Званинки до Хощевато, то есть за следующие 400 километров, мы потеряли только 12 процентов лошадей. Причина этого «благоприятного показателя» — недельный отдых в Джурине, к тому же из-за арьергардных боев замедлился темп нашего продвижения.
От Хощевато, расположенного неподалеку от Николаева, и до морского побережья следующие 300 километров мы проделали в страшную августовскую жару, необычно сильный зной выдался с 12 по 15 августа, когда мы совершали особенно большие переходы, что привело к массовому падежу животных. За сорок пять дней мы прошли 1100 километров, а из 6800 полагавшихся на кавалерийскую бригаду лошадей из-за болезней потеряли 3350. Убито или пристрелено после тяжелых ранений — 240, досталось противнику — 23…»
— Осенью 1941 года эти сорок страниц, через один интервал, написанных с некоторой долей иронии, я передал своему начальству.
«Ознакомился! Довольно интересно. Знакомить с отчетом офицеров гарнизона считаю нецелесообразным. Ознакомить старших офицеров и офицеров генерального штаба. Материал ценен для генштаба. При соответствующей доработке годен для армейских офицеров».
Читать дальше