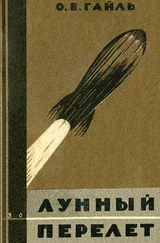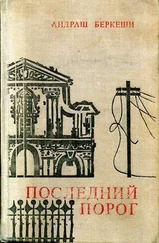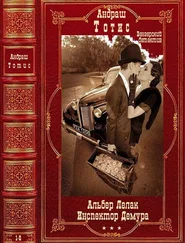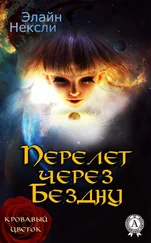Затем мы перешли границу. Однако с войсками противника мы еще долго не вступали в бой. Красная Армия отступала. Употребляя военную терминологию, советские части выходили из «галицийского мешка» без арьергардных боев. Мы же на своих лошадях и велосипедах не могли их догнать. Отступая, красноармейцы взрывали склады, хранилища, мосты, виадуки. Советское военное командование знало то, чего еще не знали мы: все силы намечено было бросить на решение важнейших и самых насущных задач, уже тогда создавались условия для поражения противника в будущем… Иными словами, нас намеренно лишали возможности быстро наладить четко действующие линии связи, коммуникации, снабжение продовольствием…
Разрушенные дороги, взорванные мосты сильно затрудняли наше продвижение вперед, особенно в Карпатах… Нас все время сопровождал приторный запах разлагающихся лошадиных трупов, дымящихся мельниц, элеваторов, складов…
Итак, пока война нам казалась странной. О подобном способе ведения войны мы ничего не слышали в Академии генерального штаба.
Затем начались поразительные, с моей точки зрения, события. Один офицер интендантской службы под покровом ночи взломал склад продовольственного магазина, а утром споил весь штаб корпуса. При этом он гордился проделанной «операцией», довольно своеобразно аргументируя свой поступок: дескать, в Советском Союзе магазины принадлежат государству, значит, алкогольные напитки — тоже, отсюда этот «герой» делал вывод, что он не мародерствовал, а захватил военные трофеи.
Был и такой случай, достойный осуждения: прославившийся впоследствии своей деятельностью в нилашистских трибуналах военный судья Доминич пожаловался мне, что страдает от безделья, что ему давно пора «повесить пару шпионов», чтобы получить орден за «боевые заслуги». Через несколько дней этот тип поймал несчастную девушку, которая наблюдала за продвижением наших гусар; девушка «призналась», что ее с радиопередатчиком забросили к нам в тыл следить за перемещением венгерских войск. И хотя никакого передатчика у девушки не обнаружили, ее повесили на площади ближайшей деревни.
Лично мне становилось все труднее выполнять свои обязанности. Я был офицером генерального штаба и отвечал за снабжение одной из кавалерийских бригад нашего корпуса. Снабжать продовольствием часть, которая находилась на расстоянии полутора тысяч километров от родины, становилось практически невозможно. Железнодорожное сообщение было нарушено, а если его и восстанавливали, то на сравнительно незначительных отрезках. Двигались мы по проселочным дорогам, которые при мелком дождике превращались в непроходимую трясину, и тогда наше продвижение прекращалось.
В нашей бригаде оставалось все меньше здоровых лошадей: привыкшие к показухе военных парадов, изнеженные животные не были приспособлены к труднейшим условиям этого похода и мерзли. Каждые сто километров на нашем пути отмечали брошенные на произвол судьбы «лошадиные госпитали». Чтобы иметь возможность двигаться дальше, мы были вынуждены прибегать к насильственной конфискации крестьянских лошадей. Неблагополучно обстояли дела и в самокатных подразделениях: в полную негодность пришли покрышки и камеры, а получить запасные не было никакой надежды. Мы все шли и шли на восток, но из-за отсутствия нормальных путей сообщения, будучи практически отрезанными от родины, гибли, теряли силы, находились на грани истощения. Немцы же относились к нам с полным пренебрежением.
В середине августа у командования наконец-то появилась первая реальная возможность раздуть до невероятных размеров «героический подвиг» нашего подвижного корпуса.
Дело происходило в районе Николаева, лежащего в устье реки Буг; там было приостановлено наступление румынских частей. Арьергард Красной Армии упорно удерживал свои позиции. И тогда мы получили приказ нанести удар на северном фланге, чтобы помочь силам, осаждавшим Николаев. Самое мобильное подразделение нашей бригады и подвижного корпуса — 14-й самокатный батальон — вступило в бой. На центральной площади поселка Христофоровка вскоре появились свежие могилы наших солдат, а генерал Ваттаи с холма наслаждался картиной сражения и чувствовал себя настоящим полководцем. Потом советские части все-таки оставили город, но мы в него не вступили. Нас погнали дальше на восток. Мы поняли: немцы специально не пустили нас в город, чтобы венграм ничего не досталось. Так и повелось — всегда и везде по странному стечению обстоятельств трофеи попадали только им.
Читать дальше