Снова замигал неутомимый глазок, и послышались замедленные шаги. «Уже?» – вскочил Болотов с койки и почувствовал, как лихорадочно запылали щеки и стало сухо во рту. «Нет. Не может быть… Ведь всего шесть часов… В бы-лин-ках на земле велик… Господи, неужели? Уже?…»
Загромыхала окованная железом дверь, мелькнул в коридоре голубой жандармский мундир, и в камеру вошел высокий, полный, очень моложавый, в черном сюртуке господин. Болотов увидел белое, с крупным носом и вьющейся бородою лицо, брильянтовые перстни на пальцах и золотую цепочку на животе. Господин смотрел на Болотова в упор – на распахнутый казенный халат и на арестантские туфли, и его серые, близорукие и ласковые глаза улыбались ободряюще и открыто. Он снисходительно кивнул головою:
– Андрей Болотов? Позвольте представиться: товарищ министра, князь Белосельский… Закрой двери… – начальственно, почти грубо крикнул он часовому. – Подслушивают канальи… Вам удобно здесь? Не сыро? Не очень темно?
Болотов с изумлением, не веря ушам и боясь, что сходит с ума, слушал и не понимал приветливых слов. Было неприятно, жутко, и любопытно, и немного противно и хотелось, чтобы этот полный, чужой, вероятно, добрый и жизнерадостный человек сказал все, что нужно сказать. «Помилуют? Да?…» – пронзила заветная мысль, и мелко, холодною дрожью задрожали колени.
– Ну-с, так я перейду прямо к делу… Видите ли… Я явился к вам по поручению его высокопревосходительства, господина министра. Ввиду выдающихся заслуг вашего батюшки, многоуважаемого Николая Степановича, и снисходя к его просьбам, министр согласился ходатайствовать за вас перед высшею властью… – Князь Белосельский остановился и значительно помолчал. По-прежнему играя глазами, точно желая ободрить, он выждал, не ответит ли Болотов. Но Болотов сумрачно смотрел себе под ноги, на пол, по худому, с крепко сжатыми губами лицу нельзя было понять, что он думает о непрошеном госте. Все еще дрожали колени и туманилось в голове. Князь Белосельский перестал улыбаться.
– Да, перед высшею властью… Я счастлив, что могу сообщить вам это известие… Только… Видите ли… – он вынул из бокового кармана бумагу. – Только нужно вот здесь подписать. О, простая формальность… У вас есть перо и чернила? Эй, кто там? Перо и чернил! Живей!..
Опять запылали щеки и стало сухо во рту. «Они хотят меня опозорить. Опозорить дружину…» – подумал Болотов и твердо сказал:
– Благодарю вас. Я бумаги не подпишу…
Князь задумался на мгновение:
– Послушайте, Андрей Николаевич… Я не ошибаюсь, – Андрей Николаевич? Ну, что же вы делаете? Ведь вы губите себя… безвозвратно… Ведь вы молоды, ведь жизнь еще впереди… Если вы не заботитесь о себе, подумайте о ваших родителях… Какое им горе! О вашей матушке, наконец…
Но как только он упомянул о матери, об отце, Болотов, чувствуя, что не в силах владеть собою, быстро поднял помутившиеся глаза:
– Я прошу… Да, я прошу… оставить меня в покое… и… и… и… не говорить об моей матери… Я… я… прошу вас удалиться… Слышите: удалиться… И сейчас же. Сию минуту… Слышите: вон!.. – уже не помня себя, выкрикивал он все пронзительнее и громче. Звякнули шпоры, и на пороге выросло двое жандармов. Князь Белосельский пожал плечами и вышел.
Когда затихло эхо шагов, Болотов лег на койку ничком и укрылся халатом, стараясь не думать. Сгустились сумерки, но огня еще не зажгли, и было тихо, так тихо, что стучало в висках, и казалось, что кто-то ходит. В этом темном оцепенении, когда нет мыслей, нет слов, нет надежды, а есть одна неизбывная душевная боль, Болотов пролежал до вечерней зари. Скудно, заглушенный стенами бастиона, пророкотал барабан. Донеслось протяжное пение молитвы.
Болотов приподнялся и сел. Он сидел, опираясь ладонями о колени и согнув низко спину. Не думалось ни о чем. Была огромная, ноющая усталость и непреодолимое желание уснуть. Он попробовал снова лечь, но мутным светом вспыхнул рожок, и он невольно зажмурил глаза. И тотчас здесь, за тюремной решеткой, он вспомнил то, что последние дни не давало ему покоя и что он тщетно пытался забыть. Он вспомнил не детство, не мать, не отца, не родных, не баррикады, не комитет, не дружину, не тот день, когда на съезде, ночуя в чулане, он начертал свою жизнь – решил умереть и убить, – он вспомнил Литейный проспект, окровавленные камни, обломки кареты, полураздетого кучера и стеклянный круглый, точно живой, удивленно прищуренный глаз. И впервые за эти часы – те часы, когда он боролся со смертью, – он понял, понял совестью, не умом, что убит не только ненавистный старик, но и ни в чем не повинный, полный сил человек, и убит не комитетом, не партией, не Россией, а именно им, только им. «Лес рубят, щепки летят», – пробормотал он сквозь зубы, но сейчас же почувствовал ничтожество душевного утешения. И как с заоблачно-снежной вершины далеко видна необозримая степь, черепичные крыши домов, веселое стадо, и пастухи, и играющая на солнце река, и лес, и колосистое поле, так теперь, перед казнью, он увидел то, что было скрыто всю жизнь. Он увидел, что даже избранная свободно смерть не есть искупление, что и кровью своей не оправдан убийца, что если должно и можно убить, то нельзя и не надо искать оправданий, ибо горе тому, кто убил. Он увидел, что не мог не убить, что не статьи о пользе террора, не ненависть, не любовь, не мщение, не гнев заставили его поднять меч, что высшая, непонятная сила, миллионы причин и сотни мелькнувших лет толкнули его на убийство. И он увидел еще – и это было самое ценное, – что убить труднее, чем умереть, и понял радостно, что смерть желанна и не страшна. Не было раскаяния и не было сожаления. Было спокойное, ясное, как глубокие воды, умиротворенное чувство. «Я убил, и меня убьют… Все правы, и все виноваты… Нет правых и виноватых… Есть два смертельных, тысячелетних врага, и никто на земле не судья над ними… Не дано знать… Но и умирая, при последнем моем издыхании, здесь, когда не видит никто, когда никто не услышит, я, приговоренный к повешению, Андрей Болотов, говорю, говорю с молитвенной верой: „Да здравствует свобода, да здравствует великий русский народ!“
Читать дальше
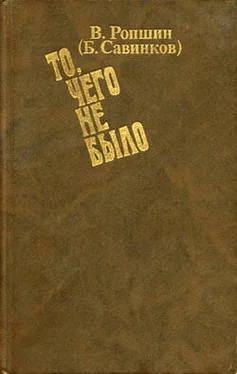

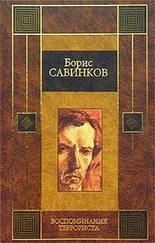





![Элизабет Лофтус - Миф об утраченных воспоминаниях [Как вспомнить то, чего не было] [litres]](/books/412244/elizabet-loftus-mif-ob-utrachennyh-vospominaniyah-k-thumb.webp)
