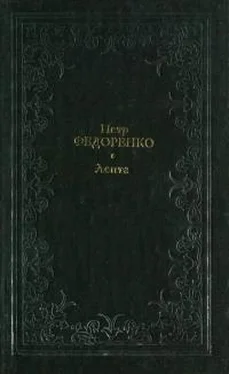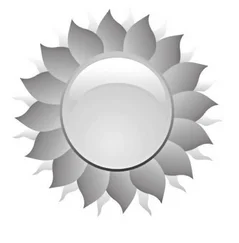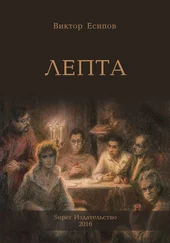До болезни он успел написать портрет Виттории, образ Христа для русской миссии в Лондоне по заказу графа Воронцова и картину «Сусанна и старцы», которую хорошо приняли в Петербурге. О Григории Лапченко заговорили. Но что ему известность, если уж больше он никогда не сможет взять в руки кисть? Его лечили в Риме и Неаполе. Теперь он видел свет, различал силуэты людей. Григорий всегда был подвержен меланхолии, а тут такое несчастье; наедине с Александром он каламбурил:
— Меня свет рая ослепил. Рожден был рабом, рабом бы и оставаться, не для меня счастье и свет на этом свете.
От таких шуток становилось вовсе горько.
Единственное, что утешало: Виттория любила его и вместе с ним уезжала в Россию — Воронцов позволил им поселиться в одном из своих украинских поместий.
Кваснин привел Александра к нанятой коляске. Григорий сидел в ней прямо, напряженно, казалось, его сковывал белый галстук, подпирающий подбородок. Был он по-прежнему красив, под стать Виттории.
— Это ты, мой друже! Как я рад! — услышал Григорий шаги Александра.
Александр обнял его, потом сел в коляске напротив, не выпуская руки Григория.
Кваснин велел веттурино трогать.
— В последний раз прокачусь по Риму, — проговорил Григорий, — как хорошо, что ты с нами, Александр.
Александр, наконец, обрел дар речи:
— Ничего, ничего, даст бог, возвратится зрение, и ты еще приедешь сюда…
Коляска шла медленно, то и дело останавливаясь у домов, где обитали русские художники. Александр помогал сойти Григорию, а Кваснин — Виттории. Прощальные визиты были коротки. Григорий больше молчал. Казалось, ему доставляло наслаждение слышать растерянные голоса художников, которые старались его ободрить.
На улице Сикста, возле дома, где прежде были студии Александра и Григория, вспомнили Рожалина.
Кваснин сказал:
— Вот бы кто порадовался вашей картине, Александр Андреевич.
— Оставьте, Павел Иванович! — Александр про себя даже выругал Кваснина за неосторожность, ему казалось, Григорию больно будет слышать о его успехе. Однако Григорий не огорчился.
— Александр Андреевич! Саша! Заклинаю тебя: работай каждый день, каждый час… и за меня тоже. Я верю в тебя.
Коляска остановилась у дома Ореста Кипренского. Кваснин соскочил, подбежал к дверям, взялся за молоток, но постучать не успел, двери распахнулись. Растерянно оглядывая гостей, вышла к ним жена Кипренского Мариучча, которая провожала доктора. Всхлипнув, она обняла Витторию.
— О, мадонна! Он умирает!
— Что такое? Как умирает?
Гости испуганно вошли в комнату, где лежал Кипренский. Полумрак, спущенные жалюзи… Не сразу увидели постель художника. Кипренский окликнул их:
— Молодежь нагрянула. Очень рад.
Он лежал у окон на высоко подложенной оранжевой подушке, желтый, худой, изможденный, глаза его лихорадочно блестели.
Как это может быть? Всего неделю назад Кипренский был на вилле княгини Волконской, здоров, говорил бодро об отъезде с Мариуччей в Петербург. Александр уже попросил Кваснина написать речь, которую, если не будет охотников, готовился сказать сам за прощальным столом. И вот…
— Орест Адамович, вы ли это? — не удержался Александр. Мариучча опять всхлипнула.
— Что ты, что ты, Мария! — успокаивал ее больной. — Не волнуйся, Мария. Я обязательно поднимусь. Мне теперь умирать нельзя. — Он улыбнулся Александру, сказал по-русски: — Я сына жду. Сына! — и опять повернулся к жене: — Мы еще уедем в Петербург, мы еще будем счастливы.
— Орест Адамович, что же с вами? Доктор-то что говорит? — Александр никак не мог поверить в болезнь Кипренского.
— Жар, простуда… тоска, если красиво сказать, вдохновение иссякло, исчерпались мои силы. Это вы, молодежь, еще только обретаете себя. Наслышан, наслышан, синьор Алессандро, — Кипренский назвал Александра на итальянский манер, — наслышан о вашем успехе в Петербурге. Рад и поздравляю. Ваша картина преподнесена государю. Вы академиком стали. Поздравляю!
Говорить Кипренскому трудно, но неожиданным гостям он рад. С живым интересом всматривается в лица, улыбнулся Виттории, Кваснину, на Григория посмотрел с сочувствием.
— Нет, это никуда не годится, Орест Адамович! — отвечал с жаром Александр. — Никуда не годится. Быть академиком — значит Академии принадлежать. Ведь это… вызовут в Петербург — и тогда прощай свобода художника. Ей-богу, я бы хотел отказаться от звания {43} 43 …я бы хотел отказаться от звания… — в связи с присвоением ему звания академика Академии художеств А. Иванов написал отцу: «Вы полагаете, что жалованье в 6—8 тысяч по смерть, получить красивый угол в Академии, — есть уже высокое блаженство для художника, а я думаю, что это есть совершенное его несчастье. Художник должен быть совершенно свободен, никогда ничему не подчинен, независимость его должна быть беспредельна. Вечно в наблюдениях натуры, вечно в недрах тихой умственной жизни, он должен набирать и извлекать новое, из всего собранного, из всего виденного…» — и далее: «Купеческие расчеты никогда не подвинут вперед художества, а в шитом, высоко стоящем, воротнике тоже нельзя ничего сделать, кроме стоять, вытянувшись» (А. А. Иванов. Жизнь и переписка. Сост. М. Боткин).
. Да как откажешься?
Читать дальше