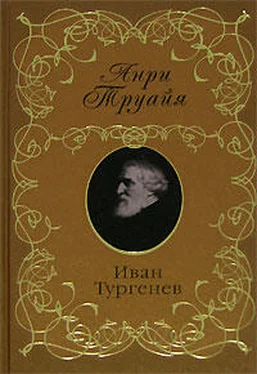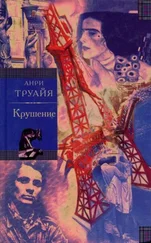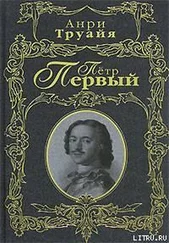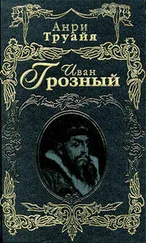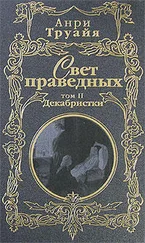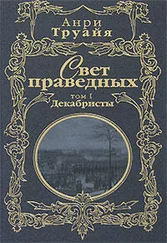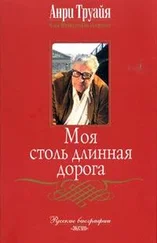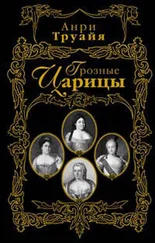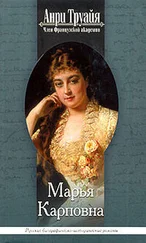Друзья Тургенева узнали в Дмитрии Рудине многие черты Михаила Бакунина. Его внешность, прежде всего его шапку волос, его жесты, его привычку «похлопывать» друзей по плечу, его восторженность, его красноречие, которые не затрагивали его сути. После некоторых колебаний Тургенев, наконец, признал, что достаточно думал о Бакунине, создавая своего героя. Однако на самом деле он больше думал о себе. Это сочетание самоуверенности и внутренней скованности, это стремление нравиться дамам и страх быть увлеченным одной из них, эта внешняя оживленность, сочетавшаяся с большой осторожностью, – все это он наблюдал в своем собственном поведении. Создавая Рудина, он обличал свои собственные слабости. Он бичевал себя. И ему, мазохисту по своему характеру, не чуждо было это самоисправление. В Рудине текла его кровь, он поразительно походил на него. Очарованный поначалу этим представителем русской интеллигенции, читатель мало-помалу открывал его ничтожность, начинал презирать, а затем был вынужден жалеть его. Закрыв книгу, он с удивлением думал о загадочности души. Кем был Рудин? Тургенев не судил его. Он, не комментируя, рассматривал все его грани. И этот метод был сам по себе достаточно оригинальным, чтобы заслужить восхищение знатоков. Все сознавали, что с романом «Рудин» в литературный мир пришло новое, современное направление. И, кроме того, он был написан изящным, безупречным музыкальным стилем. Чистым языком, который напоминал язык Пушкина. Но более красочным, более чувственным. Мягкая, нежная проза способна была верно передать все психологические или физические оттенки. Проза, которая открывала глаза, обостряла чувства, заставляла учащенно биться сердце. Проза, которая погружала вас в самую жизнь. Комментируя поведение Рудина – идеалиста, пустого мечтателя, Некрасов напишет, что Тургенев представил в своем романе «тип некоторых людей, состоявших еще недавно во главе умственного и жизненного движения, постепенно охватывавшего, благодаря их энтузиазму, все более и более значительный круг в лучшей и наиболее свежей части нашего общества». Он заключал: «Эти люди имели большое значение, оставили по себе глубокие и плодотворные следы. Их нельзя не уважать, несмотря на все их смешные или слабые стороны». (Н.А. Некрасов. «Заметки о журналах», февраль 1856 года.)
Само собой разумеется, Тургенев прочитал свое произведение Марии Толстой, и она очень хвалила его. Он часто видел ее, радуясь этим встречам и беседам, и говорил с ней о ее брате Льве Толстом, молодом талантливом писателе, который находился в то время на фронте в чине офицера артиллерии. Крымская война разгорелась в марте 1854 года, однако военные действия развивались так далеко от столицы, что Тургенев не придавал им значения. Это, думал он, была абсурдная борьба, задуманная политиками и штабами, которая ничего не даст для будущего народов. Конечно, он переживал за бесполезные жертвы, сожалел о том, что Англия и Франция восстали против России, и мечтал, чтобы это массовое кровопролитие остановилось, что позволило бы ему вновь путешествовать по Европе. Однако он не отягощал свои письма патриотическими рассуждениями. Что возмущало его прежде всего, так это публикация в Париже «Записок охотника», переведенных на французский язык под названием «Воспоминания знатного русского барина, или Картина состояния дворянства и крестьянства в русской провинции». Представленные таким образом рассказы, говорил он, превращались в текст антирусской пропаганды. Он выступил в «Петербургской газете» с протестом против ложной интерпретации, данной его книге французской критикой. Любивший Францию, он страдал от враждебности, которая проявлялась в отношении России с началом военных действий.
Смерть Николая I, последовавшая 18 февраля 1855 года, в самый трагический момент осады Севастополя, и восшествие на престол Александра II дали ему надежду на то, что мир будет вскоре подписан. Однако война – жесткая, кровавая – продолжалась. Обострились национальные чувства противников. Тургенев – враг всякого фанатизма – был одним из немногих равнодушных людей. После падения Севастополя 27 августа 1855 года изнуренная боями русская армия отступила на северный берег залива. Лев Толстой был в первых рядах сражавшихся. Тургенев высоко оценил его статьи о героическом сопротивлении осажденных. Он написал ему в поддержку письмо: «Ваша сестра, вероятно, писала Вам, какого я высокого мнения о Вашем таланте и как много от Вас ожидаю. <<���…>> Жутко мне думать о том, где Вы находитесь. Хотя, с другой стороны, я и рад для Вас всем этим новым ощущениям и испытаниям, – но всему есть мера. <<���…>> Вы достаточно доказали, что Вы не трус, – а военная карьера все-таки не Ваша. Ваше назначение – быть литератором, художником мысли и слова». (Письмо от 3 (15) октября 1855 года.) И пригласил своего молодого собрата приехать к нему во время отпуска.
Читать дальше