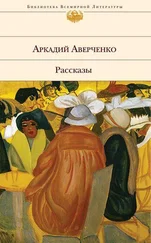Да ведь и здесь все забурело – алый бархат отставал, отлипал от стен, как плохо приклеенная бумага, – бурая шерсть из-под нее топорщилась, даже медвежьим духом шибало. Бурый потолок со свисающей медвежьей мордой – откуда она взялась? Он стрелял на охоте медведиху – у старшего брата в Гостилицах, – да не убил же, чего она скалится пастью? Сожрать хочет? Как бы не так! Он и сам медведем рявкнул – убралась мордаха обратно в долгий мех. Глянул на себя – уж истинно и сам медведем стал, забурел до неузнаваемости. Чего удивительного? Час ли, день ли, целую ли вечность скачут кони… За это время бархатный шлафрок на плечах истлел, так же, как и бархат на стенах. Голь телесная, прежде белая, от давности дней, от прожитых лет, как и все здесь, забурела. И уже не рукой – лапищей гладил он свое пузо, скреб когтями, не чувствуя боли. Только досадуя: куда прут эти толстозадые кобылы?.. Запрягалась вроде бы тройка, а теперь только две остались; передняя стенка возка куда-то отпала, явно два кобыльих зада колышутся перед глазами. Тоже бурые, под общий цвет, обросшие скатанной шерстью. Знай пыхтят по непролазные сугробы!
– Куда вы прете? – погрозил им когтистой лапищей.
Не думал, что кобылы могут говорить, но левая пристяжка обернула оскаленную, как и у медведицы, морду, захохотала на весь лес:
– Ха-ха… Туда, туда! – показала взметнувшимся хвостом куда-то вперед.
Да куда?.. На каменную стену, сложенную из громаднейших валунов. Истинная крепость! Вроде Шлиссельбурга какого-то…
– Не видишь, дурак, куда тебя везут? – и правая морда обернулась, закидывая хвост через голову, как указующим помелом. На помеле-то, поди, ведьмы скачут? При чем здесь кобылы, медведи, непролазные сугробы? Помелу везде дорога, пролетает как истая тварь.
– Куда, несчастные дуры?.. Все тот же ответ:
– Сам дурак… ха-ха!…
– Что, не бывал здесь?.. Бывал, бывал. Слезай, приехали!
– Голышом-то? Под бурой шерстью?!
Ничего не ответили. Сами отпряглись-распряглись, взбрыкнули копытами – и как не бывало! Ни их самих, ни возка. Вывалили прямо в сугроб, под камнями крепости, голышом…
Вот когда только холод прошиб!
– Да что же это такое деется?! – истинно по-медвежьи рявкнул. Ответ был уже не кобылий – стариковский, ласковый:
– А утро деется, ваше сиятельство. Доброе утрецо! Вы велели не давать вам засыпаться, уж давно тормошу. Видать, перекушали вечор?
Глядь, старый Авхимыч! Набросил скинутое на пол соболье одеяло, качает седой головой:
– Ох, ваше сиятельство, трудна, поди, была дорога?.. Он с удовольствием потянул одеяло на себя, сквозь душистый мех пробурчал:
– Трудна, Авхимыч. Полежу еще маленько. Но ты долго нежиться не давай. Некогда…
Вспомнилось, что и в самом деле времени нет. Дела?.. Да еще какие!
Императрица Екатерина Алексеевна уже навсегда устроилась в новом Зимнем дворце. Чего не удалось простоватой в быту Елизавете Петровне – хоть немного пожить в ею же задуманном и ею же построенном, с гениальной руки мэтра Растрелли, роскошном дворце, – вполне удалось бедной от рождения немке, которая до четырнадцати лет не видела за столом почти ничего, кроме американского картофеля да местной костлявой рыбки. Но вот поди ж ты – откуда что взялось! Еще во многих местах велись отделочные работы, а царская пышность и значительность бросалась в глаза уже на подходе к Зимнему. При нижних мраморных ступенях – рослые, великолепные преображенцы; при верхних, у входных дверей – они же. Елизавета любила и нежила лейб-гвардии Измайловский полк, полковником коего и была, – Екатерина сделала личной гвардией преображенцев. Забыв, что главную роль в перевороте, или словами княгини Дашковой – «революцьи», сыграли измайловцы. В этой смене-перемене угасала вместе с мундирами и роль подполковника Разумовского. Ничего не поделаешь, такова женская власть.
Он удовольствовался ружейным приветствием, ласково кивнул преображенцам и, оправляя с дороги свой Измайловский мундир, неспешно пошел дальше, осматриваясь. Бывал здесь из любопытства еще вначале строительства, бывал со старшим братом и позже, торопя мэтра Растрелли сделать хоть несколько жилых покоев для болезной Государыни. Не удалось.
Сейчас при парадном входе уже не чувствовалось строительной порухи. В вестибюле и по бокам плавно восходящей, широкой лестницы – статуи, картины, цветы, богатые красные ковры под ногами. Они-то и привели безошибочно в приемную Императрицы.
Читать дальше
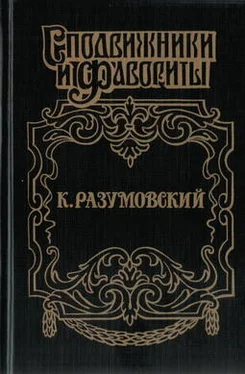

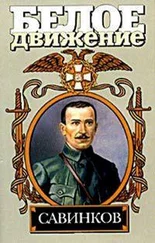

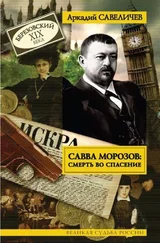


![Аркадий Черноморский - Последний подарок Потемкина [litres]](/books/431804/arkadij-chernomorskij-poslednij-podarok-potemkina-thumb.webp)