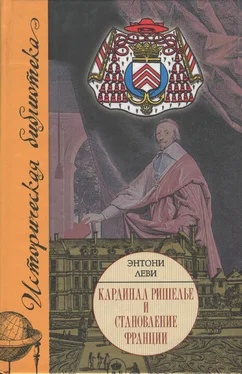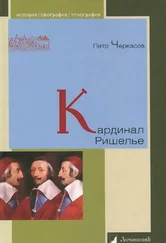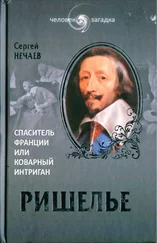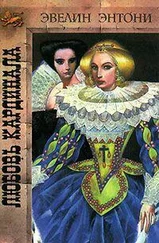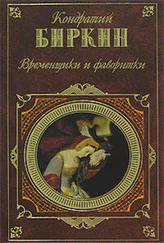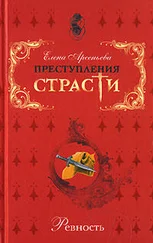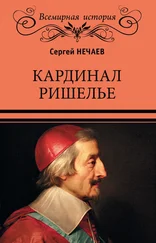В частности, деятельность Ришелье никогда не рассматривали в контексте того культурного оптимизма, который охватил французское общество в первые десятилетия века, когда художники и поэты, романисты и драматурги, философы и архитекторы, воспевая личные достоинства и общественные добродетели, обнаруживали существующую и в наши дни безрассудную веру в безгрешность того, что естественно и инстинктивно, в нравственное и физическое могущество человека, данное ему от природы. [6] О героических добродетелях и идеалах, воплощенных в творчестве таких авторов, как Франсуа ле Метель де Буаробер, Жан — Пьер Камю, Жан Демаре де Сен-Сорлен, Мартин ле Руаде Гомбервиль, Ла Кальпренед и Оноре д’Юрфе, см.: Gustave Reynier. Le Roman sentimental avant «L’Astrée». Paris, 1908; Héroïsme et creation littéraire sous les régnes d’Henri IV et de Louis XIII, ed. Noémi Hepp and Georges Livet. Paris, 1974; John Costa. Le Conflit moral dans soeuvre romanesque de Jean-Pierre Camus (1584–1652). New York, 1974; Mark Bannister. Privileged Mortals: The French Heroic Novel. 1630–1660. Oxford, 1983; Eric Caldicott. Richelieu and the Arts // Richelieu and his Age, ed. Joseph Bergin and Laurence Brockliss. Oxford, 1992. P. 203–235; а также соответствующие разделы в работе: Anthony Levi. Guide to French Literature: Beginnings to 1789. Detroit, London, 1994. Среди мастеров изобразительного искусства, воспевавших героические ценности или природные добродетели, следует упомянуть раннего Филиппа Шампеня, Гаспара Дюгэ, Клода Желле (Ле Лоррена), Лорана де Ла Гира, Шарля Лебрюна, Никола Пуссена и Симона Вуэ, о которых см., например, соответствующий том в «The Pelican History of Art» (Anthony Blunt. Art and Architecture in France: 1500–1700. Harmondsworth, 1953), а также историческое и критическое эссе Пьера Розенберга в каталоге выставки 1982 г., прошедшей в Париже, Нью-Йорке и Чикаго: La peinture française du XVIIe siècle dans les collections américaines. Paris, 1982. Важную роль в этом культурном движении играли дискуссии об освобождении женщин от мужской тирании и о социальной роли женщины в целом, которые начали приобретать новую, особую актуальность к концу семнадцатого столетия.
Именно в этой обстановке Ришелье сумел по достоинству оценить силу культурной пропаганды. Он систематически предпринимал попытки поставить под контроль литературную и художественную деятельность в стране, что в свою очередь приводило в движение процесс установления государственного контроля над основными культурными учреждениями Франции. Биографы Ришелье склонны были рассматривать (когда вообще обращали внимание на подобные вопросы) создание академии, официальное покровительство Сорбонне, вытекающее из назначения Ришелье ее попечителем (proviseur), поощрение театра, возведение небывало пышных зданий, политику содействия повсеместному развитию и иезуитских, и независимых образовательных учреждений, неутомимое коллекционирование произведений искусства и интерес к садам лишь как любопытные штрихи, дополняющие более важные сферы его деятельности — политическую, общественную или военную. На самом же деле все это было частью тщательно продуманного плана формирования культурного единства Франции, придания ей национального своеобразия.
Именно волна творческой эйфории, последовавшей сразу за формальным окончанием религиозных войн в 1594 г., породила и грезы Людовика XIII о военных победах, и мечты Ришелье о превращении Франции в страну с единой культурой. Казалось, нет почти ничего невозможного в обстановке, когда королей и принцев повсюду прославляют как мифических героев, наделенных сверхчеловеческим могуществом; когда Филипп де Шампень пишет Людовика XIII, коронуемого самой Викторией, [7] Картина ныне хранится в Лувре.
а Рубенс — изображает величественную Марию Медичи верхом на коне и в сопровождении ангелов, несущих всевозможные атрибуты победы, после поражения в стычке при Пон-де-Се; когда брак, наравне с целомудрием, считается основой христианской чистоты, [8] Франциск Сальский, чья доктрина подкреплена его статусом «Учителя церкви», в своем «Введении в благочестивую жизнь» ( Inroduction à la vie dévote, 1609 г.) считает дозволительными как танцы, так и употребление косметики. Он также включил в свою книгу главу «О непорочности брачной постели» (De shonnêteté du lit nuptial), исключенную редакторами из большинства изданий XIX в. В более позднем «Трактате о любви к Богу» (Traité de I’amour de Dieu), на написание которого его вдохновила Жанна Франсуаза де Шанталь, основавшая вместе с ним женский монашеский орден визитандинок, он радикально расходится с установившейся богословской традицией, относя всю духовность на счет живущего в человеческом сердце «естественного» стремления любить Бога; в подтверждение этого довода в первых четырех своих книгах он приводит семьдесят цитат из произведений Августина. В те времена религиозные писатели, в частности поздние янсенисты, стремившиеся подчеркнуть греховность человеческой природы, апеллировали преимущественно к Августину (см.: Anthony Levi. French moralists. Oxford, 1964. P. 113–126).
а Декарт утверждает, что нашел надежный путь к всеобщему обретению совершенства как в счастье, так и в добродетели. Мы должны не только осознавать живость и актуальность амбициозной мечты Ришелье о культурно единой Франции, но также понимать, насколько последовательно он использовал мифологизацию образа монарха для укрепления французского трона.
Читать дальше