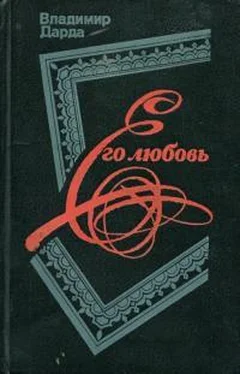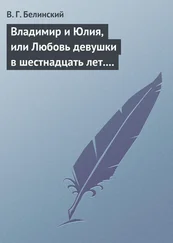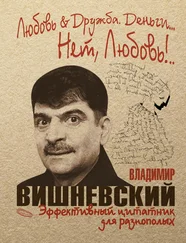— Ага, Каленик! — обрадовался тот: узнал его все-таки Шевченко.
— Так где же письмо?
Однако Каленик настолько промерз в дороге, что никак не мог одеревеневшими пальцами достать из-за пазухи бумагу и прошамкал непослушными от холода губами:
— Вам письмо от пана Лукашевича пану Шевченко. — Каленик решил при постороннем господине назвать Шевченко паном.
Тарас недовольно махнул рукой:
— Да какой там пан! Я — крепостной. Такой же, как ты! Так, значит, от Лукашевича? — И Тарас как малому ребенку помог Каленику достать помятый конверт. — Да ты, голубчик, весь окоченел! — забеспокоился он.
Каленик покорно склонил голову и признался:
— И душа замерзла.
— В такой мороз, говорят, больше двадцати градусов, и высидеть тридцать верст в санях!
— Да я пешком, — пробормотал Каленик.
— Пешком? — недоверчиво переспросил Шевченко.
— Ага, пешком… Пішки немає замішки [6] Пішки немає замішки (укр.) — буквально: пешком не будет задержки.
, — попробовал пошутить Каленик.
Тарас какое-то мгновенье непонимающе смотрел на старика, потом спохватился — письмо! Наверно, есть в нем что-то важное, если погнали человека в такую погоду, в такую даль да еще пешком!
— А ты, голубчик, разденься, сядь, отдохни, погрейся. А я почитаю.
Капнист молча стоял в стороне, пристально наблюдая за выражением лица читающего Шевченко. «Экий чудной человек! — думал он о поэте. — Так вот запросто и как будто даже с вызовом говорит этому мужику: я такой же крепостной, как и ты. Другой бы стыдился и вспоминать о своем низком происхождении, а если бы кто-нибудь ненароком напомнил ему об этом, то еще и обиделся бы. А он…»
Тарас тем временем сосредоточенно читал письмо и все больше мрачнел. Губы его дрожали от возмущения. Наконец он поднял голову, и Капнист увидел, что глубокие глаза поэта искрятся гневом.
Некоторое время он внимательно смотрел на тихого, жалкого Каленика и молчал, будто от чрезмерного потрясения лишился речи. Потом перевел взгляд на застывшего в ожидании Капниста и вдруг воскликнул:
— Нет, вы только подумайте! Так измываться над праведным человеком! Цинизм, чтобы не сказать мерзость, и больше ничего! А еще изображает из себя друга народа, патриота. А на самом деле — дрянь, негодяй! И как же только люди терпят таких!
— Тарас Григорьевич… — Капнист обеспокоенно оглянулся на Каленика — не следует, мол, говорить в присутствии крепостного такое о его барине.
— Вот почитайте, будьте добры! Почитайте, — Тарас дрожащей рукой протянул письмо Капнисту. — Как вы думаете, что тут написано? Всего-навсего: «Прощу сообщить, когда вы сможете пожаловать ко мне в гости». И ради этого гнать человека в такую непогоду пешком тридцать верст!
— Успокойтесь, Тарас Григорьевич, ради бога! — уговаривал Капнист. — Хорошо бы его, — кивнул он на Каленика, — отправить на кухню, там он согреется и перекусит после дальней дороги.
— Верно, — опомнился Тарас. Подошел к Каленику, взял его за набрякший рукав, который, оттаяв, начал слегка парить. — Пойдем на кухню. Обсохнешь, посидишь, чайку попьем. Да и заночуешь. Куда же на ночь-то глядя?
— Ой, нет, — хрипло отозвался Каленик, словно и горло его начало оттаивать. — Барин приказал, чтоб сегодня же и назад. Хоть разорвись, но ответ принеси.
— Да никуда вы сегодня не пойдете!
— Что вы, смилуйтесь! Не вернусь — засечет меня барин за непослушание. Ей-богу, засечет. — И добавил горестно: — А спина уже и так от побоев черная, как голенище.
Шевченко гневно сжал кулаки.
— Вы слышали? — глухо спросил он Капниста. — Вы видели такого изверга?
Капнист, нахмурившись, молчал. Его больше, нежели подлость Лукашевича, сейчас волновало то, что чужой крепостной слышит, как хулят его барина в имении опального князя, чей покой он, Капнист, взялся оберегать. А говорят ведь, что и стены имеют уши, и не пришлось бы ему, как некогда Виктору Закревскому, ехать в Петербург и оправдываться перед самим шефом жандармов Дубельтом.
— Вот что, — заговорил он наконец. — Вы, Тарас Григорьевич, пишите ответ, раз уж с таким нетерпением дожидается его господин Лукашевич. А я пока отведу человека на кухню.
— Ответ? — возбужденно переспросил Шевченко. — О, я напишу ему ответ! Такого он определенно ни от кого еще не получал и, полагаю, не услышит до гроба.
— Подумайте, Тарас Григорьевич, подумайте. Стоит ли так уж горячиться, портить добрые отношения.
— Отношения? Отныне никаких отношений между нами не будет и быть не может, — решительно заявил Тарас. И, словно сразу позабыв и о Капнисте, и о Каленике, подбежал к столу, схватил перо — то самое, которым только что писал строки своей новой поэмы о царях-палачах и о рабстве.
Читать дальше