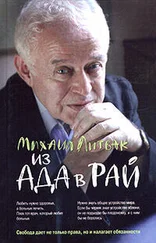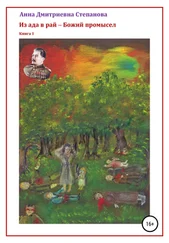Каверин на сделку с совестью не пошел. Точно так же[64] поступили немногие, и однако же поступили.
Евгений Долматовский, очень популярный в те годы поэт, его песни – «Любимый город», «Все стало вокруг голубым и зеленым», «Провожают гармониста в институт», «На Волге широкой, на стрелке далекой…» – пели повсюду. Он рассказывал мне уже в девяностом году: «За мной не приехали – мне звонили. Надо, мол, явиться в «Правду» и подписать документ государственной важности. Про содержание не говорилось, но достаточно было того, что звонил Давид Заславский, я его хорошо знал. И ничего хорошего от него не ждал. К тому же он сказал: «Пора вспомнить, Евгений Аронович, что вы еврей». Нет, возразил я ему, национальность у меня советская, а главное – я русский поэт. И только этим известен. Мои русские песни поет русский народ, и он знает меня как русского, а не еврейского поэта. Заславский стал что-то говорить в угрожающем тоне. Надо было выиграть время. Почему-то мне пришло в голову напомнить, что Шостакович только что написал на мои стихи четыре песни для голоса и фортепиано и еще кантату «Над родиной нашей солнце сияет». А сейчас, говорю, мы работаем с ним над песней о товарище Сталине. Ни над чем мы с ним тогда не работали, но я соврал – в надежде, что никто проверять не будет. А будет – Шостакович не подведет. «Конечно, вы понимаете, сказал я Заславскому, что песня о товарище Сталине важнее, чем все остальное». Плешивый отстал. И больше мне никто не звонил»[65].
Те, кому выпала горькая участь стать заложниками и невольными соучастниками задуманной гнусности, не торопились, естественно, придать ей огласку. Многие так и ушли, не рассказав ничего. Слишком поздно надумал я собрать их свидетельства. Почти никого уже не осталось. До самых последних я все же добрался.
Михаил Ботвинник в пятьдесят третьем году был на вершине своей шахматной карьеры: чемпион мира! Имя его гремело на всех континентах. Собирая еврейских знаменитостей, Заславский с Хавинсоном не должны были его обойти. Ботвинник зло отказывался от разговора со мной, именно зло – это меня поразило. Просил не беспокоить – ни за что не хотел возвращаться к тем «кошмарным дням». Кошмарным – это его выражение. Наконец, после третьего или пятого моего захода (декабрь 1991 года), признался: «Меня донимал какой-то академик (видимо, Минц. – А. В.): «подпишите, все уже подписали». Но как раз в это время я играл с Таймановым короткий матч за первое место в чемпионате СССР (М. М. Ботвинник и М. Е. Тайманов разделили 1-2-е места в чемпионате. Матч между ними игрался с 25 января по 5 февраля 1953 года, так что память Ботвинника не подвела. – А. В.) – очень подходящий повод попросить, чтобы не беспокоили. И меня еще предупредил Батуринский (полковник юстиции, занимавший руководящий пост в советской шахматной федерации), чтобы сразу по окончании матча (Ботвинник его выиграл. – А. В.) я не подходил к телефону, а еще лучше куда-нибудь бы уехал подальше от глаз. Уехать я не мог, но к телефону не подходил. Не зная, в чем дело, – просто на всякий случай. Поверил Батуринскому – человек осведомленный и зря не посоветует. Домашние тоже на звонки не отвечали, хотя телефон трезвонил с утра до ночи, – может, впрочем, кто-то хотел просто поздравить, но мне было не до поздравлений».
Виктор Давыдович Батуринский (с ним беседовал по моей просьбе корреспондент «ЛГ») не мог вспомнить, был ли у него с Ботвинником такой разговор. Принципиального значения это не имеет. Представляю себе, как мучился Ботвинник: ведь в сорок восьмом году он письменно приветствовал создание государства Израиль и придание этого государства Кремлем[66]. Его подпись под письмом в «Правду» могла бы, возможно, смягчить его вину за этот ужасный поступок, если бы пришло время держать ответ. Не подписал. Важно ли, как это ему удалось? Не подписал…
Смог я поговорить – тогда же, в декабре девяносто первого, – и с еще одним реликтом из той же плеяды – с прославленным басом Большого театра Марком Рейзеном. Когда я ему позвонил, певцу было уже девяносто шесть лет, в трубке звучал совсем не тот голос, который будил меня из черной тарелки репродуктора в кромешной тьме зимней московской рани: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Как ему не хотелось, чтобы я пришел для этого разговора! Но я все же пришел. Почему-то не работало отопление. Марк Осипович сидел в некогда роскошной, богато обставленной и – совершенно нежилой, выстуженной комнате. В дубленке и валенках: Меншиков в Березове наших дней. Повел меня на кухню, где горели все четыре конфорки газовой плиты. Я вытащил магнитофон – он властным жестом от него отмахнулся, повелел не включать. «Ну, было там какое-то сборище. Смутно помню. Прислали «ЗИМ». Какой-то академик держал речь: надо исполнить свой гражданский долг. Я сказал: «Мой гражданский долг – петь. У меня сегодня спектакль. Может прийти товарищ Сталин. Когда спою, присылайте «ЗИМ» снова. Тогда поговорим». Не прислали»[67].
Читать дальше