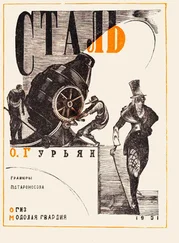Со всех концов села услышали этот плач женщины.
Заслышали те, кто шел по воду, и, не дойдя до колодца, повернули обратно и, спустив с плеч коромысла, опрокинули деревянные ведра, сели, подперли ладонями щеки, слушали причитания, не сводя глаз с широко открытого рта Вахрушкиной матери.

Услыхали те, кто шел на реку стирать одежду. Не дойдя до берега, повернули на голос, пришли, сели на свои узлы, деревянные вальки рядом положили. Ах, хороши вальки! У одного на ручке вырезан конек, у другого солнечное колесо, так-то нарядно, нам бы такой.
Услышали те, кто, сидя у очага, пряли тонкую нить, — были эти вопли громче, чем урчанье веретена, — и, отставив свои расписные прялки, заправили волосы под платок, побежали на голос, обступили тесным кольцом Вахрушкину мать.
С четырех концов села пришли женщины, слушали, как голос выводит горькие звуки, нанизывает скорбные слова. Каждая из них сама была мастерица причитать и умела понять и оценить красоту этой жалобы.
Немного погодя одна шепнула:
— А что случилось? Что с ней случилось хуже, чем выпало нам? И у нас прузи пожрали жито, и мы голодом сидим.
Но тотчас наперебой принялись ей объяснять, что хуже, ох, хуже ей, чем всем им. Так худо, что пришлось матери отдать единственного сына, лишь бы уберечь его от смерти.
Тут начали они подолом рубах утирать слезы, стали вздыхать и перешептываться:
— Что же она молчала до сих пор? А мы и не знали, каково ей худо.
Тут заговорила одна женщина:
— Вы не стрекочите, помолчите, послушайте меня, соседушки! Не пристало ли нам помочь в беде? Была бы в горшке хоть на донышке каша, где семеро едят и восьмому хватит. Семерым черпать кисель не полной ложкой, восьмому с верхом достанется. Приходи ко мне, не побрезгай. Что есть у меня, поделюсь с тобой.
Как услышали женщины эти слова, наперебой стали приглашать:
— И ко мне приходи! И ко мне! Поделимся!
Всем миром порешили — по очереди кормить мать Вахрушки, чтоб смогла она дожить до весны, свидеться с сыном.
Вот так-то, теперь всё в порядке. Вы обрадовались небось, думаете, уже теперь можно о ней не беспокоиться и даже вовсе ее забыть до самого конца книжки, когда все опять встретятся и пойдет пир на весь мир, и радость, и веселье?
А я еще не знаю, так ли это будет. А может быть, будет совсем иначе? Может быть, будет еще очень страшно? Прилетит баба-яга на помеле, заскрипят по степи половецкие телеги. Птицы заклекочут, леший захохочет, кони затопочут, черный монах посохом стукнет. От разбойничьего посвиста Вахрушкина мать без памяти ниц падет.
Я еще не знаю, так ли это будет. Может быть, так, а может быть, иначе.

Не успели они далеко отойти, Вахрушка стал вырывать свою руку из Алешкиной руки. Но Алешка держал крепко, не пускал.
Вахрушка оскалил зубы — двух передних не хватает, мальчишки в драке вышибли камнем — и, крепко уперевшись ногами в землю, изогнулся, приноровился и укусил Алешкину руку. Алешка взвизгнул от боли, оторвал его от себя и, схватив за шиворот, поднял в воздух и тряхнул. Вахрушка завопил:
— Не пойду с вами, не пойду! Хоть убейте меня, не пойду! Лопнуть мне на этом месте, не пойду!
— Пойдешь, — сказал Алешка и еще раз тряхнул как следует.
— Спусти его на землю, — сказал Еван. — Ишь как дергается. Всю рубаху порвешь на парнишке.
Алешка поставил Вахрушку на ноги, но не отпустил.
— Чего ж ты с нами не пойдешь? — насмешливо спросил он. — Струсил, что ли?
— Ничего я не струсил!
— Да ты не вырывайся, не отворачивайся. Испугался небось? Думаешь, мы тебя заведем в лес, там тебя волкиз агрызут?
— Ничего я не испугался!
— Боишься, мы тебя лешему отдадим?
— Да не боюсь я ничего! Отстань от меня!
— Ты не сердись, Вахруша, — сказал Еван. — Ведь тебя мать отпустила, значит ей лучше так. Значит, если ты вернешься, она тебе не обрадуется и обратно отошлет.
— Небось не отошлет, — сказал Вахрушка.
— Раз сама отдала, так отошлет, — повторил Еван. — И если ты не трус и есть у тебя понятие, что мы тебе добра желаем, так ты не станешь кусаться и драться, а по своей воле пойдешь с нами. Отпусти его, Алеша. Пусть идет куда хочет.
С этими словами он двинулся вперед, а Ядрейка с Алешкой пошли следом.
Читать дальше
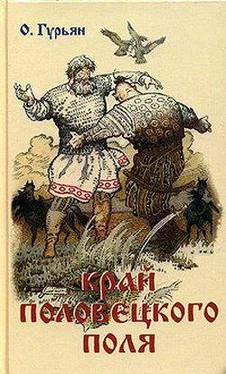


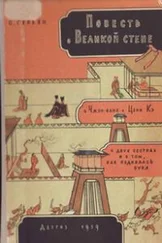
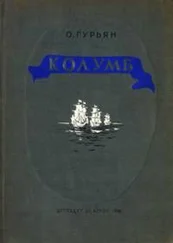

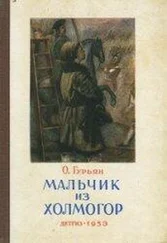

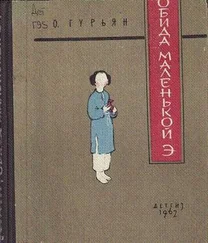



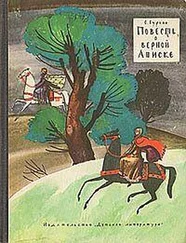
![Ольга Гурьян - Мальчик из Холмогор [Повесть]](/books/400942/olga-guryan-malchik-iz-holmogor-povest-thumb.webp)