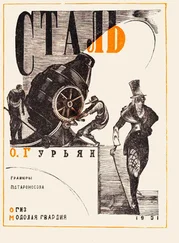Как узнали новгородские женщины ужасную весть, выбежали они на улицу, в голос завыли. Настасья Ядреиха младенца на лежанку бросила, выскочила из дому, волосы на себе рвет, головой о землю бьется, не своим голосом кричит:
Ох ты, Ядреюшка, любимый мой!

Плачет Настасья:
Не поганые половцы погубили тебя,
Погубили тебя проклятые князья.
За чужим добром они погналися,
А своих людей смерти предали.
Ох, Ядреюшка, ты мой любимый муж,
Не видать уж мне твое светлое лицо,
Не смотреть мне в твои ясные глаза,
Ласковый голос твой не услыхать.
Закатилось мое солнышко навек.
И не тучами оно закрылося,
А засыпано оно черной землей.
И мне без тебя неохота жить —
Как прискакала Евфросиния Ярославна в Путивль, в княжьи покои вошла, на тесовую кровать повалилась, забылась сном. А недолго спала, открыла глаза — небо красное.
— Половцы! — кричит княгиня как безумная и с кровати вскочила, по комнате мечется.
— Что ты, что ты? — уговаривает ее мамка. — Это не половцы — это заря. Это солнышко всходит, облачка окрасило.
А княгиня не слушает, по переходам каменным бежит, по сквозным галереям, по лестницам вниз. Мамка за ней бежит, еле-еле успела накинуть ей на плечи верхнюю одежду, рукава длинные, бобровым мехом оторочены, до полу свисают.
Выбежала княгиня на площадь, а там полно баб. Сидят на земле, младенцев нянчат, причитают:
— Уже нам своих милых-любимых ни мыслью не смыслить, ни думою не сдумать, ни глазами не повидать.
А как увидели княгиню, на обе стороны подались, расступились, ей дорогу открыли.
Взбежала Евфросиния Ярославна на высокую стену, стоит, руки ломает. Ветер ее кисейную фату треплет, ее голос прочь уносит. Снизу, с площади, не поймешь, какими она словами плачет, что приговаривает.
Внизу бабы смолкли, прислушиваются. Долетают до них обрывистые слова.
— Про ветер говорит, ветер-ветрило. Говорит: зачем навстречу веешь?
— А к чему бы про ветер, не расслышу я?
— Никак, к тому, что стрелы по ветру дальше летают. Зачем ветер их на наших воинов несет?
Ветер рвет фату с головы, Евфросиния Ярославна едва двумя руками ее удержать может. Бабы слушают, переговариваются:
— Про синий Дунай помянула. К чему бы это? Путивль-то не на Дунае, на Сейме.
— А у ней мать — венгерская королева. Ихний город, говорят, на Дунае-реке.
— Тогда понятно.
На стене Ярославна руки к небу протягивает. Внизу бабы шепчут:
— Про солнце, слышь, приговаривает, что тепло оно. Притихла, родимая, совсем убило ее горем. Со стены спускается, личико свое фатой прикрыла. Свои горькие слезы от людей скрыть хочет.
Прошла Ярославна обратно, за резными дверями скрылась. На площади бабы вздыхают, меж собой говорят:
— Ох, горе ее больше нашего. Наши-то мужья черные люди, а она князя своего потеряла-утратила. Не пристало-то нам свои убогие слезы с ее великой скорбью, жемчужной крупной слезой, мешать.
Утерли они глаза, по домам разошлись, занялись каждая своим делом. А как у иной сердце не выдержит, выбежит она в пустые сени или клеть, неслышно всплакнет и опять за работу примется.

Из тысячного войска пятнадцать человек спаслись. Кто раненый очнулся и прочь пополз. Кто с трудом из-под убитого коня высвободился, оглянулся кругом, а врагов не видать, лежат одни бездыханные тела. Кто, не выдержав жажды, из соленого озера воды напился, обезумел, лопочет, прочь бредет. Кто товарища, друга любимого, кровью истекающего, на себе из боя вынес, подальше уволок и видит: умер друг и не воскресить его. Закопал он его в сырую землю — жадные звери, хищные птицы его тело не растащили бы по степи. Поднялся с колен, оглянулся, — тихо. Далеко откатились половцы, битвы не слыхать. Он и пошел куда глаза глядят.
Встретились все пятнадцать на Каяле-реке, по ее течению повыше, где вода чистая течет, не мутная, не красная, а светлая и прозрачная, водопадиками с камушка на камушек низвергается, водяную пыль разбрызгивает.
Напились пятнадцать воды досыта, без сил на землю свалились, заснули тревожным сном. А как проснулись, полный месяц в небе светит, степь заливает серебром. Тихо, пустынно, никого ни вблизи, ни вдали не видать.
Читать дальше
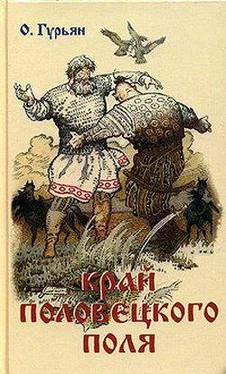


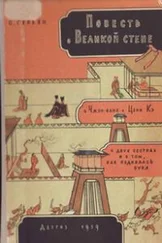
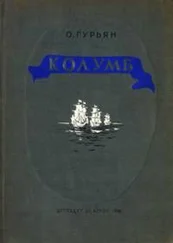

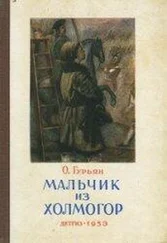

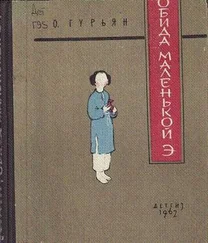



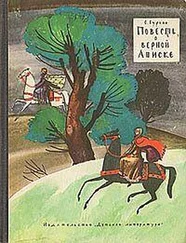
![Ольга Гурьян - Мальчик из Холмогор [Повесть]](/books/400942/olga-guryan-malchik-iz-holmogor-povest-thumb.webp)