— Что делать? — не выдержав, слабым голосом спросил Теренций.
Сенека холодно усмехнулся (еще без презрения, но уже с очевидной холодностью):
— Не беспокойся, Теренций, тебе не придется убивать Никия, это сделают другие. Ты только проведешь нужных людей к нему, когда тебе об этом скажет Палибий. Вот, собственно, и все.— Он встал. Теренций поднялся тоже.— Ты можешь ехать. Лучше всего прямо сейчас. Сколько дней тебе разрешил отсутствовать Никий?
— Не... не знаю... несколько.
— Скажешь ему, что тебе стало скучно, что родные места тебя не взволновали, что Сенека совсем одряхлел... Ну, придумаешь, что сказать. Мои послания уже готовы, поезжай сейчас же.
И, больше ничего не добавив, Сенека повернулся и пошел к дому. Теренций побрел следом, обреченно глядя в его спину, которая теперь уже не казалась ему такой сутулой.
Час спустя, сопутствуемый причитаниями Крипса, Теренций выехал из усадьбы Сенеки и направил лошадей в сторону дороги, ведущей в Рим. На душе у него было тяжело. Так, как никогда прежде. Он думал о том, как же несчастливо сложилась его судьба: дорога в Рим неизменно оказывалась дорогой несчастья. Чем он заслужил такую немилость богов, или Бога, как говорят христиане! Он поднял голову, посмотрел на пасмурное небо и тяжело вздохнул.
На полдороге, остановившись передохнуть, он вытащил свитки, которые дал ему Сенека, и положил перед собой на траву. Один из них показался ему плохо запечатанным. Он поднял его, внимательно осмотрел и, чуть согнув, аккуратно сдернул печать, развернул, настороженно оглядевшись по сторонам. Сверху было написано: «Гаю Пизону. Привет».
— Гай Пизон,— повторил он вслух и, не продолжив чтения, опять свернул свиток и наложил печать на прежнее место.
Он еще не добрался до Рима, когда стало темно. Дорога была пустынной, темнота казалась кромешной, но страха Теренций не ощущал. Больше всего ему хотелось сейчас, чтобы из кустов, растущих вдоль дороги, выскочил Симон их Эдессы и схватил бы сильной рукой повод его коня.
Афинские выступления Нерона прошли самым наилучшим образом. По крайней мере, для него самого. Более радостным Никий не видел его еще никогда. Он выходил на сцену, пел, читал монологи, принимал лавровые венки победителя, которыми его награждали устроители, а потом спрашивал у Никия с почти безумным от возбуждения лицом:
— Не правда ли, помпезно?!
Что это должно было означать в точности, Никий не очень понимал, но, искренне радуясь за Нерона, отвечал, сладко прикрыв глаза:
— Это божественно, принцепс!
Не в силах бороться с чувствами, император бросался к Никию, обнимал его, прижимал к себе с такой силой, что причинял боль.
После ночи, проведенной у Никия, Поппея стала вести себя по-другому. Холодность больше не появлялась на ее лице, она перестала быть похожей на статую и принимала радость Нерона со всем доступным ей участием. То есть тоже, как и Никий, восхищалась его игрой, радовалась его радости, вполне соответствовала его собственному настроению.
— Я люблю вас, я люблю вас! — восклицал Нерон, одной рукой обнимая Поппею, а другой — Никия.
Никий и сам по-настоящему заразился радостью Нерона и мог бы ощущать себя вполне счастливым, если бы не взгляд Поппеи, который она время от времени обращала на него. Это был взгляд заговорщицы, и он гасил счастье так, как если бы на огонь плеснули воду.
Это стало первой неприятностью, а второй — то обязательство, которое наложила на него Поппея и которое он начал исполнять еще в ночь их первой близости. Как всякий человек, испытывающий огромную радость, Нерон оставался слеп и беззаботен, и найти время для исполнения этого самого обязательства не составляло особого труда. Впрочем, оно и не требовало много времени. Поппея легко его находила. То Нерон готовился к выступлению, то отдыхал после него. Поппея являлась так внезапно, будто вырастала из-под земли, брала Никия за руку, шептала: «Пойдем» — и увлекала его в какой-нибудь темный угол. Не заботилась о том, чтобы там была постель, вообще ни о чем таком не заботилась. Они делали это стоя, сидя, очень редко лежа (просто потому, что лежать было негде). Сначала Никий так смущался, что не мог себя настроить, и свидание длилось значительно дольше, чем того требовала осторожность. Потом все пошло легче. Тем более что Никий понял: чем быстрее он исполнит то, что она хочет, тем быстрее освободится. Поппея шептала успокоительно: «Ничего, Никий, как только я забеременею, я оставлю тебя в покое, а сейчас постарайся. Ну! Ну!» И он старался, и временами даже чувствовал некий род вожделения. Как бы там ни было, но все-таки Поппея нравилась ему, а то, что она была возлюбленной императора Рима, придавало ей дополнительную прелесть.
Читать дальше
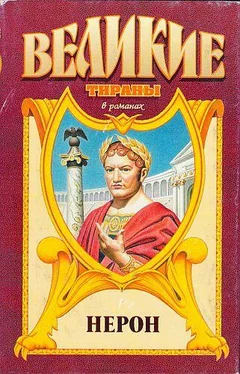
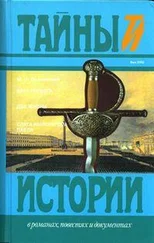








![Александра Лисина - Меч императора [litres]](/books/400492/aleksandra-lisina-mech-imperatora-litres-thumb.webp)
![Александра Лисина - Мар. Меч императора [СИ]](/books/402732/aleksandra-lisina-mar-mech-imperatora-si-thumb.webp)
