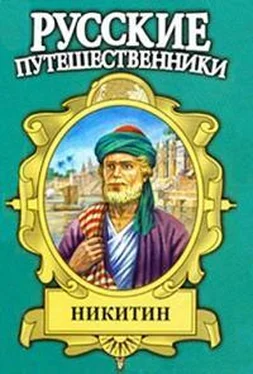Слёзы показались на глазах Офонаса. Глаза светло-карие набухли влагой и покраснели... Все слушали. И голос его, и песня на непонятном языке не прискучивали... Очень хвалили песню и пение...
А ночью Офонас долго не мог заснуть, разгорячила его душу песня, и на глаза наворачивались слёзы... По ком он тосковал? По Насте и Ондрюше, коих давно уже и не было в живых. Тосковал по снегу, по улкам тверским, по деду Ивану. И особо тосковал по матернему языку, будто язык, речь, являлось живым существом...
А наутро все отправились бить зайцев и куропаток.
Полетели стрелы, закричали охотники.
Офонас остался помогать кухарю. Сварили похлёбку с бараньим мясом. Большая глиняная посудина исходила вкусным паром. Все пришли и сели подкреплять силы. Офонас теперь пошёл с Каримом. Авджибашия позвал охотиться на волков.
Долго ехали в степь. Вдруг передние охотники закричали:
— Волк! Волк!
Полетели стрелы.
Снова послышались крики:
— Белый волк!
— Авджибашия! Белый волк! Белый волк!
Замелькал перед глазами всадников белый загривок.
Удача!.. Белый волк!..
Авджибашия пригляделся из-под ладони. Волк нёсся прыжками к болоту.
Офонас оглянулся и не увидел Карима, потерял его из виду.
Но вот закричали тревожно. И Офонас снова заоглядывался, пытаясь понять причину тревожных возгласов.
Карима борзо трясина затягивала. Уж лошадь его ушла в трясину. Он поднимал руки, звал на помощь.
Офонас, не раздумывая, соскочил со своего коня и бросился к болоту. Одежда тотчас отяжелела. Острые стебли тростника впивались в ладони, в шею, острый конец одного стебля едва не вонзился в глаз.
Юсуф раздвигал руками тростник и покрикивал:
— Держись, Карим! Держись... Я иду!..
Пахло стоячей водой и грязью. Тростник колол тело. Рот наполнился липкой кровяной слюной.
Голова Карима появилась над водой стоячей. Уже близко добираться до него. Всё лицо Офонаса было в крови, кровь стекала с его пальцев, когда он взмахивал кистями рук.
Своими окровавленными руками он обхватил Карима, тянул, тащил его и наконец взвалил себе на спину. Карим всё бормотал:
— Друг мой, друг мой, друг...
Офонас ломал руками острый тростник, встававший на пути, и не чувствовал боли.
Вот и берег!..
Офонас вытащил, вытянул Карима и повалился рядом с ним на траву.
Небо увидел вдруг. Чистое было небо.
А губы слиплись от крови. Кровь текла со лба...
Карим также был с изрезанным лицом и окровавленными руками.
Авджибашия подскакал и требовал, чтобы принесли вина.
Офонас поднялся, сбросил промокший кафтан, тяжёлый, стянул рубаху, подошёл к воде. Промывал раны. После подставил сложенные горстью ладони под струю вина, крепкого.
Плеснул вина, пахучего, в лицо себе, словно это вода была. Ослеп. Свело руки.
Пусть, пусть жжёт.
Уже и боли не стало, растирал руки и грудь. Снял и шаровары. Вылили на него, нагого, вино из большого кувшина. Ещё оставалось в кувшине на дне вино. Офонас запрокинулся с кувшином большим, последние капли жгучие всосал, будто дитя — млеко материнское. Кто-то из охотников стащил с себя короткий кафтан, прикрыл Юсуфа. Чей-то голос произнёс:
— Надобно чистую одежду...
Офонасу чудилось одиночество. Один он — и никого вкруг. И Карим оставался, казалось, где-то далеко. И перекликивания охотников не было слышно. И этих звуков, этого жужжания полётных стрел. Офонас не думал ни о чём. В воздухе повис густой винный дух... Так бы и глядеть на небо и вдыхать пьяный воздух...
Белый волк спасся от погони. Подняли и добыли зайцев, куропаток, лисицу, но белый волк исчез, пропал.
— Да не белый он — серый вовсе, — говорили одни.
— Не белый, а попросту седой, старый, — говорили другие.
На возвратном пути Юсуф и Карим, усталые, ехали рядом; болели ссадины. Юсуф и Карим отстали. Ехали одни, а прочие-то ехали впереди...
— Спасибо тебе, гарип, — сказал Карим. И Офонас равнодушно услышал это «гарип» — «чужой». А Карим продолжил: — Спасибо тебе, ты спас меня. Такое спасение деньгами не мерить, но я тебе дам денег.
— Ай! Не надо! — Офонас поморщился, и ссадины на лбу и на щеках заболели остро... Отчего не надо? Разве же у него столько денег, что ему более и не надо? Но его всё ещё одолевали чувства одиночества и свободы, свободности... В сущности, от них, от этих чувств и родится благородство... И повторил искренне: — Ай! Не надо, не надо! Денег дашь — обидишь!.. — И об руку с этим самым благородством ступает, распоясав рубаху, и шубёнка — внакидку, бесшабашность... — Не надо мне денег... — И Офонас сказал просто, что хочется женщины, а, может, Карим знает, где здесь взять; ведь бывал здесь...
Читать дальше