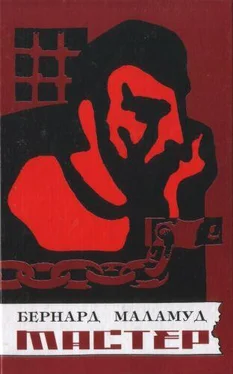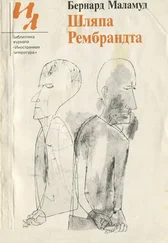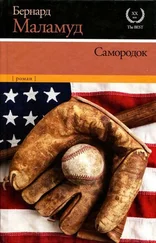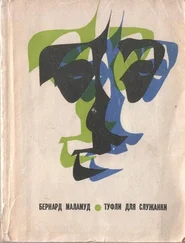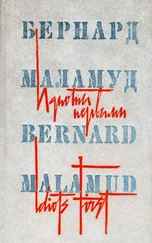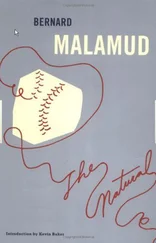Еще неделю спустя смотритель пришел с большими ножницами.
— На теле мальчика обнаружено несколько волосков, хотим сопоставить с вашими.
Яков с неохотой позволил остричь ему волосы.
— Сами отстрижете, — сказал Грижитской, — снимете семь-восемь волосков и положите вот в этот конверт.
И отдал конверт и ножницы Якову.
Мастер срезал несколько волосков.
— А откуда я знаю, вдруг вы возьмете мои волосы, положите на тело мальчика и потом скажете, что они раньше там были?
— Вечная подозрительность, — поморщился смотритель. — Вся ваша нация такая.
— Вы меня извините, конечно, но почему смотритель тюрьмы должен искать улики преступления? Он что — полицейский?
— Не твое собачье дело, — сказал смотритель. — Вот ты невинный, так и представь доказательства.
В конверт с волосами упала вошь, Яков не стал ее вынимать.
Еще как-то утром смотритель принес Якову пузырек черных чернил и несколько осьмушек бумаги — взять образцы почерка. Велел написать по-русски: «Имя-фамилия у меня Яков Шепсович Бок. Я действительно еврей».
Потом смотритель вернулся и велел мастеру написать несколько слов, лежа на полу. Потом он велел Житняку держать Якова за ноги, пока тот писал свое имя, стоя на голове.
— А это зачем? — спросил Яков.
— Посмотреть, как меняется почерк от изменения позы. Тут требуются все возможные образцы.
И по два раза на дню потом в камере мастера производилось обследование его тела: так называемый «обыск». Отодвигались засовы, входили Житняк, старший надзиратель в вонючих своих сапогах, и мастеру приказывали раздеться. Яков снимал все — пальто, арестантский халат, рубаху без пуговиц, залубеневшую от грязи, как ни просил он, чтобы ему разрешили ее постирать, и наконец сбрасывал штаны. Ему разрешали оставить ветхую исподнюю сорочку, чтобы вдруг не закоченел до смерти. Еще он должен был снять рваные носки и башмаки на деревянной подошве, какие он носил с тех пор, как врач проткнул ему волдыри, и раздвинуть ноги, чтобы Житняк оглядел ему пах.
— Зачем вам это надо? — спросил мастер во время первого обыска.
— Помалкивай, — сказал Житняк.
— Это чтобы проверить, не спрятано ли у вас оружие какого-нибудь рода на теле и в одежде. Мы вас должны оберегать.
— Какое мне оружие прятать? Все у меня отобрали.
— Вы хитрые все, я вас знаю, но и я стреляный воробей. Можно спрятать иголки, гвоздики, булавки, спички, да мало ли; а то и капсулу с ядом евреи могли передать для самоубийства.
— Ничего у меня нет такого.
— Встать и расслабиться, — говорил старший надзиратель.
И Якову полагалось поднять руки, раздвинуть ноги. Надзиратель своей четырехпалой рукой щупал ему подмышки, мял мошонку. Потом мастеру надо было поднять язык; он оттягивал себе обе щеки, а Житняк ему заглядывал в рот. И последнее — он наклонялся вперед и раздвигал себе ягодицы.
— Не жалей на жопу газет, — сказал Житняк тогда, в первый раз.
— Чтобы не жалеть, надо еще иметь.
Потом обыскивалась одежда, и ему разрешали одеться. Хуже ничего в жизни не бывало с Яковом, и это бывало два раза на дню.
3
И страшная тоска его одолела. Я пробуду тут вечно. Обвинения никогда не предъявят. На разбитых коленках перед ними ползать буду, не отдадут они мне его. Никогда не поведут меня в суд.
В декабре по утрам на всех четырех стенах выступал иней. Как-то он проснулся оттого, что задел за стену рукой. Воздух был ледяной и холодный — как смерть. Целый день он ходил по камере, чтобы не закоченеть. Астма его мучила. По ночам он лежал на своем матрасе в пальто, под одеялом и задыхался, хрипел, свистел, сипел, жадно стараясь глотнуть воздуха. Тот, кто слушал под дверью, задвигал глазок, отходил. Но как-то утром Житняк принес новых дров, помог Якову сложить у стены, и почти по грудь вышла поленница. А вечером в щах плавали куски мяса и кольца жира.
— Какой зверь в лесу сдох? — спросил мастер.
Стражник пожал плечами.
— Не хотят, стало быть, в начальстве, чтоб помер ты на ихнюю голову. С мертвеца взятки гладки, на суд его не потащишь. — Он подмигнул и легонько хмыкнул.
А вдруг это все означает, что вышло обвинение, заволновался Яков. Они не хотят, чтобы на суде я был как скелет.
Не только еда стала лучше, ее теперь было больше. По утрам ломоть хлеба увеличился и гуще стала каша, ячменная, на снятом горячем молоке. И к чаю давали полкуска сахару, чуть отдававшего плесенью. Мастер жевал медленно, с наслаждением. Прусак в миске уже не тревожил его. Выбросит прусака и ест себе дальше, и потом еще миску вылизывает. Житняк приносил еду и сразу уходил. Но иногда он смотрел в глазок, как ест арестант, хотя Яков обычно сидел в это время на стуле, к железной двери спиной.
Читать дальше