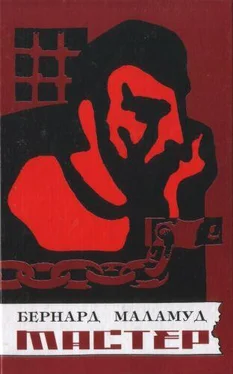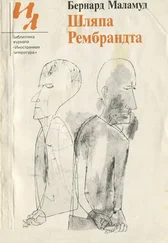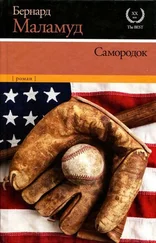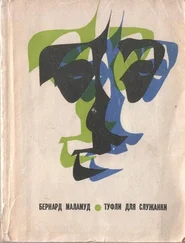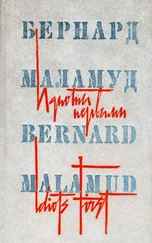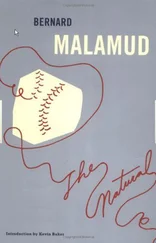— Ужасная произошла вещь, Яков Шепсович. Эти люди без чести, без совести. Боюсь, как бы и с вами они не расправились.
— Нет, нет! — кричал Яков. — Я не верю в привидения!
Следователь закуривал розовую папироску, посидит, помолчит; потом что-то хочет сказать и начинает таять. И медленно исчезает во тьме, бело мерцая, будто вечер настал, а потом ночь; и нежное свечение папиросы тускнеет, тускнеет, пока совсем не погаснет. И только страшный образ останется: как он висит, и выкаченные глаза смотрят в пол, на раздавленные стекла.
Всю ночь сидел мастер, скорчась в углу камеры, и в ужасе ждал смерти. Заснет на минуту, и сон наполняется запахом, вкусом и страхом смерти. Вот он, недвижный, лежит на кладбище, закоченелый, подавленный ужасом. В черном небе горят черные звезды. Шевельнешься — свалишься в раскопанную могилу, а там гниют мертвецы, там клочья мяса, там темные кости. Но еще больше смерти боялся он пыток. Боялся, что будут его терзать и рвать перед смертью. Втащат в камеру жуткие свои инструменты, машины, деревянные, страшные, они крушат человеку кости, кромсают живое мясо; и на оконной перекладине вывесят труп. На рассвете, когда его касался грязный взгляд из глазка, он просыпался от жуткого сна и молил о пощаде. Дверь скрежетала — он вскрикивал; но стражники его не душили. Дежурный вталкивал ногой миску с варевом, без единого прусака.
Весь день метался мастер по камере, иногда пускался бегом, пять шагов, три шага, пять, три, а то, прерывая свое топтание по кругу, кидался на стену или разбивал кулаки о железную дверь с долгим, тоскливым воем. Он оплакивал Бибикова, горько оплакивал. Неделями только Бибиков один и поддерживал Якова, жил в его мыслях возможный спаситель, справедливый, благородный человек; он бы выручил его из тюрьмы, из этой ловушки, капкана этого, освободил от самого преступления, от мерзкого навета. В этих мыслях было единственное утешение Якова: добрый человек помогает ему, и с его помощью, когда будет суд, Якова оправдают. И будет он на свободе, и помчится к себе в штетл или, если сумеет собрать средства, подастся в Америку. Где они теперь, эти ожидания, надежды, мечты; он ими дышал, а их у него вырвали без предупреждения. Кто теперь его выручит? На кого ему теперь полагаться? В том месте души, где так прочно засел Бибиков, теперь, гиблая, зияла дыра. Кто теперь изобличит убийц, Марфу Голову и ее дружков, кто объявит о его невиновности журналистам? Если, скажем, она удрала из Киева, перебралась в другой город, а то и в другую страну, — кому теперь надо ее разыскивать? И как же теперь люди узнают о беззаконии против невинного человека? И кто его выручит, если никто во всем белом свете, кроме тюремщиков, не знает, где он? Никому он не нужен, Яков Бок, он — ноль, его нет. Предположим даже, они не собираются его убивать, так они медленно его доконают, похоронят заживо, навеки в этом застенке.
— Мама-папа! — кричал он. — Спасите меня! Шмуэл, Рейзл, кто-нибудь, спасите меня! Спасите меня, люди!
Он ходил кругами, забывая, что ходит, изобретая немыслимые планы побега, и от каждого плана сердце болело, каждый был неосуществим. Весь день он ходил, и ночью ходил, пока не разбились коты, а потом босиком ходил, изранил все ноги. Ходил в почти жидкой жаре, и некуда было идти, только кругами, кругами в этой ловушке, и он ходил, он бил себя — по голове, в грудь, царапал себе лицо, руки и проклинал свою жизнь.
Разбитые ноги болели невыносимо. Яков в изнеможении валился на пол. Пытка, пытка без всяких орудий — эта боль в теле, эта тоска в душе. Стопы, все в струпьях, в кровавых гнойных ранах, вздулись — вот-вот лопнут. Потом опухоль всползла вверх по ногам, стало не видно лодыжек. Мастер лежал навзничь, дышал шумно, с присвистом. Было бы тут хоть чуть-чуть попрохладней. Сколько еще я выдержу? Ноги как будто заковали в кандалы и сунули в огонь. Обе распухли до самых колен. Он лежал навзничь, и он хотел умереть. Злой глаз на него смотрел. Наконец он подставил гниющую ногу под самый глазок; но что он мог сказать, тот, кто смотрел? Ничего он не сказал.
— Помогите! — кричал Яков. — Мои ноги болят невыносимо!
Тот, кто стоял за дверью, пусть слышал, но ничего не ответил. Взгляд исчез из глазка. Мастер дрожал как в лихорадке, весь взмокший, он снова стонал всю ночь. Утром заскрежетал ключ в замке, и в камеру вошел смотритель Грижитской. Вспомнив про Бибикова, Яков весь сжался. Но кривой смотритель был настоящий, живой, человек как человек, и даже Якову показалось вдруг, что то, что он тогда видел в соседней камере, был сон; неужели наяву он видел такое? Он не смел спросить про следователя. Узнают, что он знает, — тут же убьют.
Читать дальше