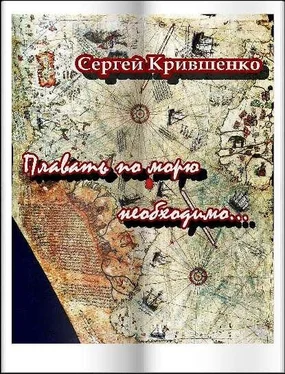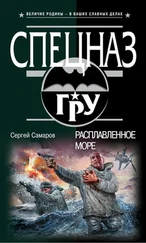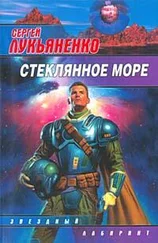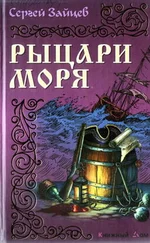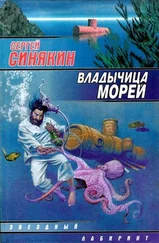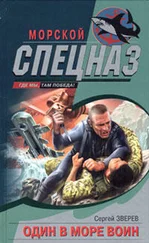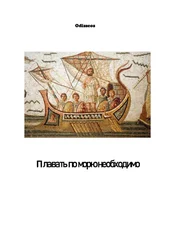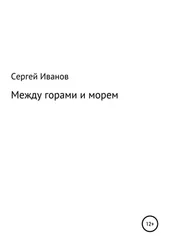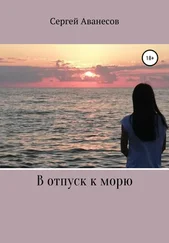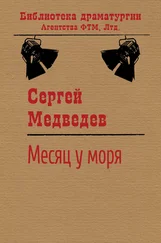Даже в жизни героических людей мы находим примеры для национальной самокритики: ну, что ж, в этом и сила поэзии, сила русского ума.
Кажется, обо всем сказал в своем стихотворении Державин. Но один подвиг наших героев, на этот раз прежде всего Давыдова, остался за пределами его произведения: подвиг творческий. Они оставили нам описание своих путешествий. Итак, откроем «Двукратное путешествие…»
Итак, «Двукратное путешествие». Два тома, первый из них — описание самого путешествия, путевой дневник, второй — описание быта, нравов жителей острова Кадьяк. «Этот труд является первым русским трудом по природе островов и побережья Аляскинского залива», — пишет А.И. Алексеев в монографии «Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской Америки». Нас в данном случае интересует не эта, вторая часть, носящая научно-этнографический характер, а первая, говоря словами Лисянского, «путешественные записки». Это не отчет, не вахтенный журнал, а именно путевой очерк, живой и эмоциональный.
Автор обстоятельно описывает путь из Петербурга через Сибирь в Охотск, а затем морское хождение в Русскую Америку. Повествование ведется от первого лица: здесь и протокольные наблюдения, и живописные зарисовки, и философские размышления, и лирические отступления. Словом, «Двукратное путешествие» небезлико почти в каждой своей строке. Оно исповедально, согрето душевным светом, который идет от автора. Характерно, что историческое прошлое дается не как известие или исторический очерк, а как то, что живо в памяти. История пропускается через душу автора. Конечно, это прежде всего история мореплавания. «Имея довольно свободного времени, — пишет Давыдов, — мы читали о бедственном состоянии английского корабля „Центавр“ под командою капитана Энгельфильда, который спасся с 13 или 15 только человеками из всего бывшего с ними военного и купеческого флота. Хотя подобное нещастие легко могло с нами случиться, однако же описание сие нас не потревожило. Может быть, оттого, что неохотно вдаемся в размышления о бедствиях другого, когда сами к тому близки». Это уже не просто отчет об увиденном: автор не ограничивается перечислением, описанием фактов, он показывает, как то или иное событие, явление входит в жизнь, воспринимается, стремится найти объяснение многим из них.
Давыдов упоминает о «мореплавании русских промышленников по Восточному океану». Но это не парадное упоминание. Это своеобразное размышление «сына отечества» о причинах «худого состояния» мореплавания, о том, как их изживать, чтобы «восходить… на степень желаемого изрядства». Такими причинами автор считает и отдаленность земель, и трудность привлечения «искусных в морском знании людей», и дороговизну припасов и снаряжения, и «корыстолюбие частных правителей», и закоренелые привычки, вредное правило «вместо поправления скрывать худое». Давыдов раздосадован, что все эти причины замедляют развитие мореплавания на Восточном океане, мешают «восходить оному на степень желаемого изрядства». Зная, что не все примут эту критику, он с гражданственной смелостью упреждает удар: «Таить сии обстоятельства есть то же, что хотеть, дабы оныя не приходили никогда в лучшее состояние».
И столь же правдиво и смело описывает «мореплавание в настоящем его виде», ставя проблему подлинной заботы о развитии мореходства, подготовки искусных в морском деле людей. Стремясь не быть голословным, автор приводит примеры несчастий, происходивших от невежества. Вот один из примеров. Одно судно от Камчатки зашло далеко к югу. Алеутских островов все не было. Не зная, что делать и куда идти, мучаясь жаждой, «решились они положиться на волю Божию. Вынесли на палубу образ Богоматери, помолились ему и сказали, что откуда бы ветер ни задул, пойдут с оным.
Через час после полил дождь, принесший им величайшую отраду, и задул южный крепкий ветр, продолжавшийся сряду восемнадцать суток». Не зная, что делать и куда идти, люди предались судьбе. Слава Богу, им повезло. А другие от невежества гибли.
За невежество крепко достается иным мореходам от Давыдова. Критикует он и действия промышленных людей, не любящих науку мореплавания, не имеющих «никакого уважения к мореходам своим, коих они часто бивали или заколачивали в каюту». И вместе с тем он высоко отзывался о мужестве русских мореходов, этих «новых аргонавтов», плавающих в Америку. Они «достойны гораздо более удивления, нежели бывшие под предводительством Язона, ибо при равном невежестве и недостатках в способах должны переплывать несравненно обширнейшие и немало им известные моря».
Читать дальше