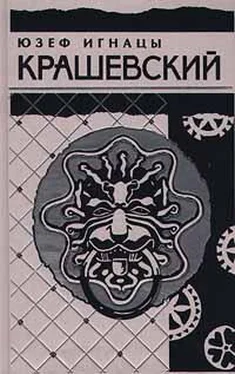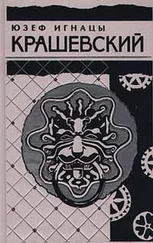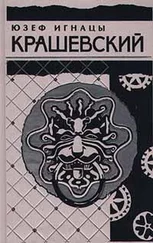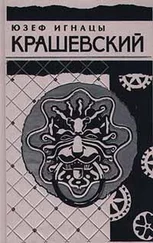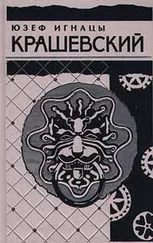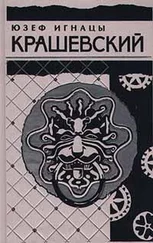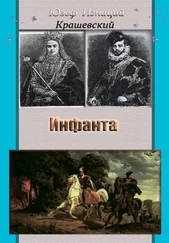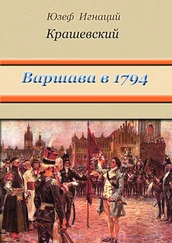— Нет, — прервал Дю-Валь, — необходимо допустить ее к экипажу, потому что надобно схватить преступника.
— Они могут быть вооружены! — воскликнула графиня, заламывая руки.
Дю Валь нахмурился.
— Будь что будет, — решил он, — а мы должны схватить этого господина! Он хотел драться, пусть же останется побитым, я не отступлюсь от своего.
— О нет! — сказала графиня, схватив его за руку. Дю Валь вырвался.
— Прошу предоставить это мне, это уже дело мое! Будьте спокойны, я иду, мы условимся с паном Клаудзинским и устроим все, как следует.
Дю Валь взял уже было за руку управителя, который молча стоял с испуганным видом, как вдруг графиня гневно топнула ногой.
— Ни шагу отсюда! — воскликнула она. — Я здесь хозяйка, и все сделается по-моему!
Дю Валь рассудил, что ему следовало быть уступчивым, и он уступил, но пожимал плечами.
— Черт вас побери! — воскликнул он, скрежеща зубами. — Если вы желаете действовать сами, действуйте, только уж я в таком случае не мешаюсь.
Они посмотрели друг на друга сверкающими глазами; графиня опомнилась в свою очередь.
— Но все-таки без меня…
— Во всяком случае, — перебил дю Валь, — это дело мужское, и его следует кончить не по-женски, а по-мужски. Схватить панну у калитки ничего еще не значит и ни к чему не поведет, кроме скандала.
— Но скандал помешает замужеству. Дю Валь засмеялся.
— У нее есть деньги, — сказал он, — а потому, что ей за дело? Надобно схватить виновников и отодрать, а без этого все вздор.
Клаудзинский только стоял, молчал и с удрученным видом смотрел в землю.
— Как же вы узнали об этом? — спросил у него дю Валь.
— Случайно подслушал.
— Кого?
— Горничную, высланную для уговора,
— Когда? — спрашивал дю Валь, видя, что Клаудзинский путался более и более.
— Э, — отозвался управитель, — теперь не время для расспросов, нужно дело делать, чтоб не было поздно.
Француз обратился к графине и, взяв ее за руку, сказал почти повелительным, хотя и смягченным голосом:
— Будьте спокойны, графиня, все сделается тихо, ручаюсь; ухожу с паном Клаудзинским, устроим все, как следует.
Было поздно, когда два человека осторожно вышли из палаццо и быстрыми шагами поспешили к фольварочным строениям.
Между тем заплаканная, трепещущая Иза попросила сестру, чтоб та известным ей путем проводила ее к отцу. Ей хотелось еще раз увидаться с ним, не зная, суждено ли было видеть его более. В этот час обыкновенно у больного старика никто не бывал, кроме Эммы, к нему можно было прийти незаметно, а мальчику, дремавшему в передней, Эмма платила довольно дорого, чтоб могла делать, что хотела. Вечернее посещение ее не только не было исключительным, а, напротив, обыкновенным. На этот раз, однако ж, Иза неотступно просила взять ее с собою.
Взявшись за руки, обе сестры, через пустую оранжерею, галерею, лестницы и коридоры, пугаясь шума собственных шагов, словно тени, проскользнули незаметно к двери больного.
В этой части палаццо господствовала глубочайшая тишина; мальчик спал на скамейке, в комнатке старика горел ночник, но Эмма очень хорошо знала, что отец ожидает ее и не уснет, пока с нею не увидится, пока не получит хоть горсть конфет.
Больной лежал в своей постели, видимо, ожидая чего-то; лицо его в темноте едва отличалось цветом от подушек, он начал двигаться, и из уст его вылетели едва внятные слова: "Эмма! Эмма!"
Дочь уже спешила к нему, и больной смотрел не на нее, а лишь на руку и протягивал исхудалые пальцы, чтоб схватить гостинцы.
Обе сестры стали на колени у отцовской постели. Иза схватила его руку, которую старик у нее вырывал, и со слезами начала целовать. Заглушаемые рыдания ее как-то странно пробудили больного, он начал внимательнее смотреть на них и сказал:
— Две! Две!
А потом, по-видимому, начал искать то, что принесла ему другая.
Иза принесла ему только свои слезы.
Старик отворотился; он ел с такой жадностью, так по-животному, что Иза, которая реже видела его, почувствовала боль в сердце.
— Эмма! Он поймет тебя, попроси, пусть благословит нас.
Обе снова подошли ближе; Эмма начала шептать что-то, старик уставил в нее стекловидные глаза и, казалось, ничего не понимал.
Тогда любимая дочь взяла его руку и, смотря на него, положила ее на голову сестры. Старик посмотрел на Эмму, потом на Изу и все еще не понимал, в чем дело; только рука его дрожала, как бы хотела вырваться.
Долго длилось грустное молчание, старик ел, искал на постели крошки, заботливо собирал их и, наконец, когда ничего не осталось, опустил голову на подушки и медленно закрыл глаза. Напрасно Эмма, взяв снова его за руку в положив ее на голову сестры, хотела, чтоб он повторил вслед за нею слова: "благословляю", граф только невнятно бормотал имя дочери "Эмма!"
Читать дальше