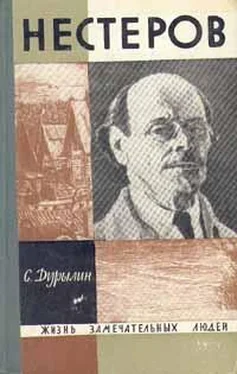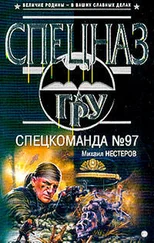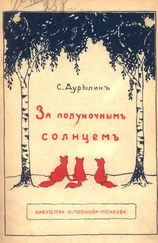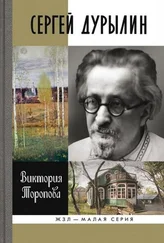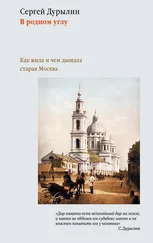Но от всех волнений и трудов Нестеров тяжело заболел. Из Уфы на лошадях, в распутицу, приехала Мария Ивановна — и выходила своего жениха.
18 августа 1885 года они обвенчались вопреки воле и «без благословения» родителей Нестерова. «Невеста моя, — вспоминал художник в старости, — несмотря на скромность своего наряда, была прекрасна. В ней было столько счастья, так она была красива, что у меня и сейчас нет слов для сравнения. Очаровательней, чем была она в этот день, я не знаю до сих пор лица. Цветущая, сияющая внутренним сиянием, стройная, высокая…»
Началась жизнь, полная счастья и труда. От денежной помощи родителей Нестеров отказался.
Он ревностно работал для журналов, снабжая их рисунками на бытовые и исторические темы и иллюстрациями к Пушкину, Гоголю и Достоевскому.
– Я никакой иллюстратор, ничего здесь не умею и много здесь нагрешил, — говорил Нестеров в 1925 году, когда я собирал материал для доклада в Академии художественных наук «Нестеров как иллюстратор».
По его приблизительному подсчету, им было исполнено в 80-х годах до тысячи рисунков для журналов и книг. Он работал в «Радуге», «Ниве», «Всемирной иллюстрации», «Севере», иллюстрировал для издательства Сытина собрание сочинений Пушкина и много книжек для детского чтения (сказки, былины). С середины 80-х до начала 90-х годов имя Нестерова мелькает среди самых усердных рисовальщиков. Художник с улыбкой говорил в 1925 году об этом усердии: «Рисовал потому, что пить-есть надо было».
В рисунках этих годов Нестеров спешит отзываться на мелкие жанровые темы, готов быть рисовальщиком-хроникером (зарисовывает новые спектакли, изображает Нижегородскую ярмарку). Рисунки его по большей части тусклы, вялы, серы: он явно берется не за свое дело, как, впрочем, приходилось тогда браться не за свое дело и его любимому товарищу Исааку Левитану, изображавшему в дешевом журнальчике «Салтыковскую платформу» с отдыхающими дачниками. Отдыхать Нестерову-рисовальщику доводилось лишь тогда, когда он прикасался к близким для него темам — к русской сказке («Сивка-бурка, вещая каурка»), к Пушкину («Руслан и Людмила») и особенно Достоевскому («Братья Карамазовы»). В жанровых же рисунках художественная удача улыбалась ему лишь тогда, когда он давал волю теплому юмору, столь свойственному ему в живой речи, а по преимуществу тогда, когда сквозь скучные личины повседневности в том или ином женском облике проглядывал милый образ жены.
В начале 1886 года вышел «Альбом рисунков М.В. Нестерова и С.В. Иванова», изданный последним. В альбоме пять рисунков Нестерова, исполненных литографским карандашом. Два из них — простые зарисовки с его же картин «Дилетант» и «Знаток». На третьем — в бытовой уфимской сцене «На трапе» художник изобразил свою жену.
Но как ни упорна была эта работа в журналах и в издательствах, она давала очень мало, и приходилось искать любой другой работы. В сентябре 1940 года Нестеров рассказывал:
– Я был мальчишкой тогда. Дела мои были плохи. Ожидал Ольгу. Писал «До государя челобитчики». Ни гроша в кармане. Был тогда в Москве некий Август Августович Томашка, чех, принимал заказы на роспись потолка, стен, гостиных, работал с архитектором Клейном. Зарабатывал много, жирно, бил учеников, подмазков. Розы и лиры, букеты и арабески умел писать, а фигуры вовсе не умел. Вот он меня поймал как-то и предложил работать у него. Мы расписывали дом Морозовой на Воздвиженке. Томашка, когда уходил, запирал меня и ключ уносил с собой, чтобы, войдя случайно, когда я пишу фигуры, не увидел кто-нибудь, что он не сам их пишет. Он мне заплатил сто рублей. Я обомлел от радости: никогда у меня не было столько денег! А сам за эту работу получил 7 тысяч!.. Мне надоело все это, да и противно было смотреть, как он бьет ребят. Я ушел.
Тяжелая, поденная работа ради куска хлеба не нарушила ни счастья, ни творческих замыслов. В дешевой комнате на шумной окраине (за Красными воротами, Каланчевская улица, «Русские меблированные комнаты», № 11) он пишет эскиз, потом и картину на большую серебряную медаль и на звание классного художника — «До государя челобитчики». На большой холст, на натурщиков, на исторические костюмы (XVII в.) ушла сотня рублей, которой его снабдило училище. Но жена прекрасно позировала для отрока-рынды, предшествующего царю, выходящему к челобитчикам, а Василий Иванович Суриков, с которым только что завелось знакомство, охотно помогал своими советами, как превратить мишурные костюмы из театральной костюмерной в настоящие одеяния царя и бояр XVII века.
Читать дальше