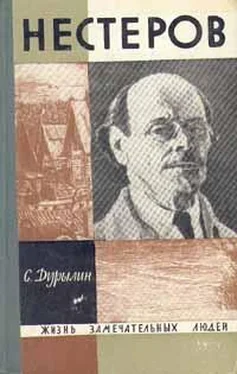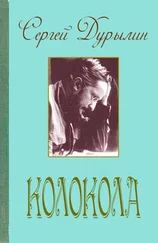Нестеров говорил мне, что, написав «Пустынника» и «Отрока Варфоломея», он мечтал пожить в Петербурге и хорошенько поучиться у Павла Петровича Чистякова, но приглашение на работу во Владимирский собор в Киеве навсегда помешало осуществить это намерение.
Из академических лет у Нестерова гораздо ярче сохранился образ одного из учеников Чистякова, чем самого учителя.
Это был Михаил Александрович Врубель, получивший 2-ю серебряную медаль за эскиз «Обручение Марии с Иосифом». Нестеров всегда восхищался этим блестящим, академическим в лучшем смысле слова рисунком.
«Я же хотя за эту же тему и получил 1-ю категорию, но не медаль. Да и не стоил мой эскиз медали: он был сделан весьма «по Дорэ», что тогда вообще практиковалось, но не поощрялось».
Академию художеств Нестеров нашел для себя в Эрмитаже. Манкируя занятиями у Шамшина, Верещагина и др., там проводил он целые часы перед великими мастерами, наслаждаясь и поучаясь.
В академии было хорошее правило: прежде чем писать картину на золотую медаль, на тему, предложенную академией, необходимо было сделать копию с одного из великих мастеров. Нестеров сперва остановился на одном из второстепенных голландцев, затем увлекся «Неверием Фомы» Ван-Дейка (он всегда произносил и писал «Вандик»). Копия вышла отличная. Она была замечена Иваном Николаевичем Крамским, с тех пор подарившим молодого художника своим теплым участием.
Работы в Эрмитаже Нестеров вспоминал с особым чувством.
«Жизнь в Эрмитаже мне нравилась все больше и больше, а академия все меньше и меньше. Эрмитаж, его дух, стиль и проч. возвышали мое сознание. Присутствие великих художников мало-помалу очищало от той «скверны», которая так беспощадно засасывала меня в Москве».
Эрмитаж на всю жизнь оставался для Нестерова лучшей из Академий художеств, в которой он никогда не переставал учиться. Посетив после долгого перерыва Эрмитаж в 1923 году, Нестеров писал П.П. Перцову, автору столь любимой им книги о венецианской живописи:
«Эрмитаж все тот же. Бродил по нему, предаваясь воспоминаниям. Когда-то давно так много было воспринято там такого, что хватило на долгую жизнь. Редко гений человеческий так властно давал себя чувствовать, как то бывало в Эрмитаже в молодые годы. Вот и теперь, когда жизнь изжита, те же чарующие видения. Вот и мой Вандик, «Неверие Фомы», вот эти чудные принцы и принцессы, дальше Рубенс, а там таинственный золотой Рембрандт. А дальше еще Тициан, Беллини, Рафаэль…»
Молодой восторг и неутомимое упоение звучала в этих словах старого Нестерова.
Но чем глубже отдавался молодой Нестеров этим освобождающим влияниям подлинного искусства, тем скучней становилось ему в академии, тем сильней пробудилась в нем тяга вернуться на свою художественную родину — в Москву, в училище, к Перову.
Весною 1882 года Нестеров помчался в Москву с надеждой начать новую жизнь. Но Перов был уже при смерти.
«Горе мое было великое, — вспоминает Нестеров. — Я любил Перова какой-то особенной юношеской любовью». Он спешит запечатлеть на полотне красками образ угасшего учителя. Глубокое чувство — скорбь — вложило впервые в руки Нестерова кисть портретиста, и это же чувство сделало его реалистом: на своем этюде он добивался сохранить для себя подлинные черты дорогого покойника. [3] Сохранился рисунок Нестерова «Могила В.Г. Перова». Помеченный 1884 годом, рисунок этот еще раз свидетельствует о глубокой привязанности ученика к учителю.
Возвращаться в Москву, в училище, без Перова, как будто не имело смысла. Но Нестеров таким одиноким и ненужным чувствовал себя в Петербурге, так много переболел там телом (два раза вынес тиф) и душою, что, пробыв в Петербурге еще зиму (1882–1883), в которую написал копию с Ван-Дейка, он весною 1883 года оставил академию, а с осени вновь поступил в Училище живописи.
На лето 1883 года Нестеров приехал в Уфу. В родном доме его встретили с холодком: опять без медалей, опять без наград! Переход его из академии в училище казался чем-то вроде перехода из университета назад в гимназию. Создавалась репутация беспокойного неудачника. Неудача была и с живописью: этюды не писались. На душе у Нестерова было смутно и беспокойно. Он с иронией писал об этом времени: «В Уфе дух «протеста» уфимского «Карла Моора» отражался на всех снимках знакомого фотографа, охотно снимавшего меня в более или менее «разбойничьих» видах. Так дело шло, пока однажды…» не произошла у Нестерова встреча, с которой, по его признанию, началась новая эпоха в его жизни и искусстве.
Читать дальше