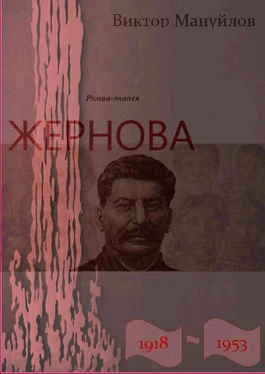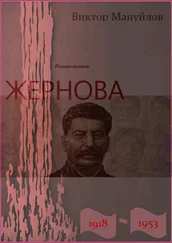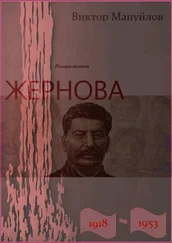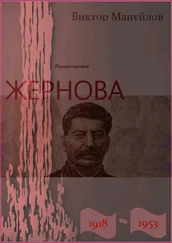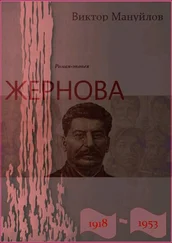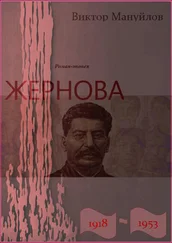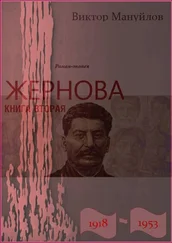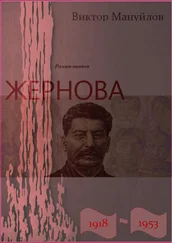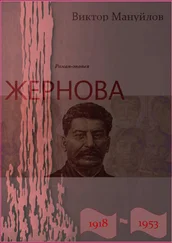Борис Васильевич хмыкнул, полагая, что подобное может иметь место, но в исключительных случаях, следовательно, автор столкнулся с таким случаем, но сделал при этом непозволительное обобщение, что может расцениваться как дезинформация, направленная на деморализацию Красной армии. Вернув письмо в конверт, но не запечатав его, он сделал на конверте едва заметную пометку и положил его в отдельную папку. И принялся за следующее. В голове его при этом не отложилось ничего, никакой мысли или впечатления. Ничего, кроме механической констатации факта. И последовавших за этим механических же манипуляций. Да и то сказать: если после прочтения каждого или хотя бы одного из тысячи писем в голове откладывалась хотя бы самая малость, давно бы сошел с ума или нажил себе язву. Тут от одних запахов, идущих из мешков, может с непривычки вывернуть наизнанку, а если к этому да еще эмоции — то и говорить нечего.
К концу рабочего дня, продолжавшегося двенадцать часов с тремя получасовыми перерывами, в папке набралось писем, требующих особо тщательной проверки, не менее двух десятков — все больше критика командования и мечтания о том, как все перевернется и улучшится сразу же после войны. Эту папку Борис Васильевич сдал начальнику отдела подполковнику Гнесинскому вместе с бумагой, на которой в отдельных графах указаны фамилии и адреса отправителей и получателей, и короткое резюме по поводу содержания. Подполковник, в свою очередь, зафиксировал в своем журнале количество писем и передал папку в другой отдел, где сидели представители Смерша. Там письма проанализируют с точки зрения сохранения военной тайны и возможности выявления вражеской агентуры, часть писем вернут Гнесинскому, часть передадут в политический отдел, где занимаются вопросами морально-политического состояния армии и выявления антисоветских и антипартийных элементов. Затем некоторые письма проштемпелюют и отправят по адресу, но без вымарок подцензурного текста: начнется игра в кошки-мышки.
За окном дождит, однако…
И который день подряд
Воет тощая собака…
Бяка, драка, кулебяка…
И тоски зеленый взгляд…
— быстро записал в тетрадке лейтенант Попов и, вздохнув, вытащил из мешка очередной треугольник.
В политическом отделе народу немного — пять человек. Тоже лейтенанты и один старший лейтенант. На кителях институтские и даже университетские значки. Все высоколобы, трое в очках. Одна из них женщина, молодая и весьма привлекательная еврейка с большими аспидными глазами. Здесь читают молча. Думают. Здесь составляют отчеты о моральном состоянии войск в политотдел фронта, фронт составляет обобщенный отчет и отсылает его в Москву. Москва, в зависимости от настроений на фронтах, выдает указание об усилении политико-воспитательной работы в действующей армии, указывая конкретное направление этой работы.
Письмо о произволе командного состава попало лейтенанту Киме Абрамовне Гринберг. Первым делом она обратила внимание на фамилию отправителя: Солоницын А.К. — знакомая фамилия. Встала, подошла к одному из шкафов с длинными ящичками, выдвинула один из них, перебрала карточки: есть Солоницын А. К.! Значит, не впервой. В другом шкафу нашла папку с той же фамилией. В папке выдержки из предыдущих писем. Некоторые из них прошли через ее руки, другие — через руки ее коллег. Переписка велась между тремя лейтенантами: Солоницын писал с передовой, где командовал какой-то непонятной батареей, своему приятелю Мишину, тоже лейтенанту и тоже артиллеристу, проходящему излечение в госпитале, и другому лейтенанту, но уже пехотному — Николаенко. А те ему. Все трое сходились на том, что начальство в большинстве своем невежественно, солдат не бережет, что для него важнее всего выслужиться перед своим командованием, а командованию — перед вышестоящим, — и так по цепочке до самого верха. То есть, заключила Гринберг не без тайной иронии и злорадства, перед самим Сталиным. Но это еще полдела. Дело заключалось в том, что авторы писем переносят свою критику не только на командование армией, но и вообще на советскую власть, считая, что она, эта власть, зажралась, ей дела нет до своего народа, что воюет она руками таких, как лейтенанты Солоницын, Мишин и Николаенко, и не за Родину, а за свои теплые местечки, что надо после войны что-то делать, иначе деградация общества, смута и разор.
Кима Гринберг полностью согласна с этими лейтенантами. Правда, со своих, сугубо личных позиций: перед войной многие ее родственники и знакомые попали под каток репрессий, стали врагами народа. Поначалу-то она и сама считала, что так и должно быть, выступала на собраниях, разоблачая и кляня, но незадолго до войны некоторые из репрессированных вернулись, ожесточенные, с твердым убеждением, что все надо менять, иначе будет хуже. Особенно евреям. Они, правда, прямо об этом не говорили, а все экивоками, и даже больше помалкивали и пожимали плечами, но молчание и пожимание их было столь красноречивым, что не понять его значения было невозможно. И Кима, к тому времени повзрослевшая и утратившая наивность доверчивой молодости, сочувствовала этим экивокам, молчанию и пожиманию плечами. Тоже, разумеется, молча и тоже вполне красноречиво. К тому же фамилия Солоницын вызвала в ее памяти годы учебы в Московском институте философии, литературы и истории — знаменитом ИФЛИ. Некто Солоницын, — если не его однофамилец, — учился двумя курсами сзади и, скорее всего, ничем среди других не выделялся. Иначе бы она его запомнила. Во всяком случае, он не принадлежал к тому тесному кругу, к которому принадлежала Кима Гринберг.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу